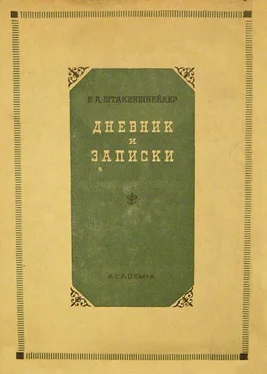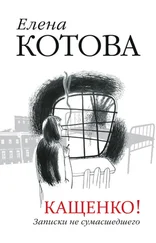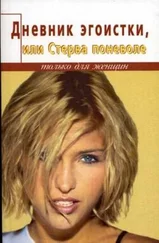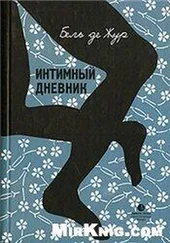Те люди, которые в одном кармане носили и стихи Глинки и стихи Лаврова, может быть, и были правы, соединяя их: они соединялись между собой, как конец соединяется с началом. Стихи Глинки были лебединой песнью отходящего, стихи Лаврова — начальными звуками новой речи, — речи, в то время, и в его устах, еще полной иллюзий, но которая, начавшись стихами, быстро перешла в прозу и, раздаваясь все громче и громче, как неопределенное ау в лесу дремучем, скликала братьев к одному месту, чтобы они увиделись и поняли друг друга.
Прошло лето. Опустелый Петербург снова оживился, и надежды на победы, и угрозы закидать врагов шапками снова его преисполнили. По улицам возили турецкие пушки, отбитые у неприятеля; с газетами разносили летучие листки реляций, и в них было всегда что-нибудь утешительное. И о чем было особенно горевать? О крови, льющейся в Севастополе? Судя по реляциям, ее лилось немного. За стереотипной фразой: «неприятель понес значительную потерю убитыми и ранеными» обыкновенно следовало: «у нас убит один казак». В средствах и силе России никто не сомневался, ни мы сами, ни даже враги паши, а о нашей славе давно ли напоминал Синоп.
Без железных дорог, без телеграфов, чем страшна так была Россия? Неужели своей огромностью только и неизвестностью? Или все еще 1812 годом и блеском 1814 года? Мы так привыкли казаться сильными, что сами, наконец, поверили в свою силу, а между тем могли бы знать, насколько силен разлагающийся организм. Николай Павлович вдался в ту несчастную для него войну, запутался, как пойманный в сетях зверь, и погиб. Россия восторженно откликнулась на боевой призыв его, как привыкла откликаться на всякий призыв своих царей, и пошла лечь костьми, не зная, на что и за чем она идет. Николай Павлович погиб, но Россия спаслась. Только спаслась она не тем, на что надеялась, не силой своей, не удивительной своей военной подготовкой, а необыкновенным счастьем, именно тем, на что и не рассчитывала, — погибелью Николая Павловича.
Когда это совершилось, когда прекратилась, наконец, и разрушительная, ужасная война, Россия встала с одра своих бедствий, как больной, для которого опасность миновала, но силы еще не явились; который и слаб, и худ, и бледен, и брит, пожалуй. Но покуда Николай был еще жив, и ужасная разрушительная война была во всем своем разгаре, тогда Россия со своими восторгами и надеждами, и мечтами была, как горячечный больной у порога смерти. Ей стала лучше, она пришла в себя 18 февраля 1855 года, в то утро, когда из Зимнего дворца раздалось: «государь умер». До этого утра 18 февраля оставалось еще шесть месяцев, когда мы воротились в ликующий своими надеждами Петербург. Это ликование коснулось и дома Толстых, но в доме Толстых всегда на первом плане стояло искусство, пламенным поклонником и как бы верховным жрецом которого был сам старый граф. Оно и тут не уступало прав своих, и хотя часто служило формой для выражения того, что всех занимало, но еще чаще заставляло забывать, не унося своих поклонников вон из мира действительного.
И литература была или, вернее сказать, считалась уже тогда проводником тех идей и тех ощущений, которыми были все полны. И все, приучаясь читать между строк, находили, что им было нужно: старую песню, чтобы опьянеть и, опьяневши, забыться, или ропот, неясный, как отдаленные раскаты грома, когда приближается гроза, но ропот, так согласно вторящий их внутреннему ропоту. Только книг было мало: история с Петрашевским была еще слишком свежа в памяти, и Николай Павлович был еще слишком страшен. Книг было очень мало, а цензура безобразнее, нежели теперь, потому что цензора, люди невежественнее многих, не говорю — мыслей, — слов многих совсем не понимали, и все, чего не понимали, вымарывали. Любознательность принуждена была уйти внутрь, — и в темноте росла, подтачивая старый организм, покуда его не сокрушила, покуда не нашла себе выхода.
У Толстых собирались два раза в неделю, по воскресеньям, когда дом был открыт для всех знакомых, и по пятницам, когда принимали только художников и писателей, а из дам очень, очень немногих. Я любила эти пятницы больше воскресений. Живые вопросы дня, постоянно на них возбуждаемые, музыка, чтение, рисование имели для меня невыразимую прелесть. К тому же в собиравшемся там обществе царствовала удивительная гармония; оттого ли, что не высказывались вполне, или оттого, что еще не договорились до спорных пунктов. На такую пугливую природу, какою была моя, подобная обстановка действовала благотворно чрезвычайно. Дом Толстых положил в меня начало тем убеждениям и тем привязанностям, без которых трудная и невеселая жизнь еще труднее и невеселее. Зато он и лучшее воспоминание из моего прошлого; зато и на графиню, мою невольную благодетельницу, я никогда не могла злиться, как бы следовало, когда она так мерзко вела себя в отношении к нам.
Читать дальше