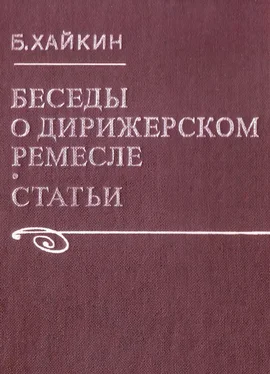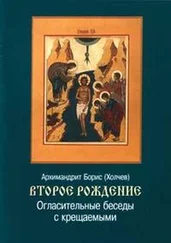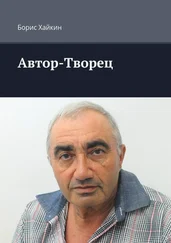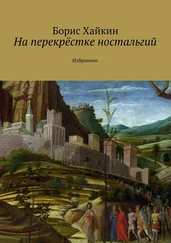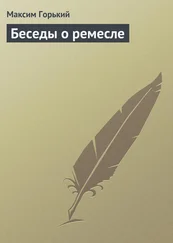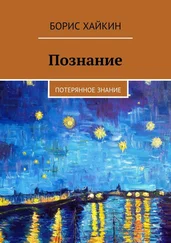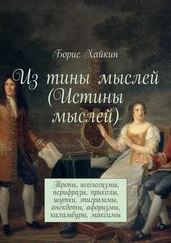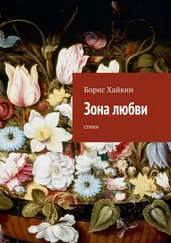Знаю от В. И. Сука и Д. И. Похитонова, что до революции при подаче в дирекцию казенных театров заявления о предоставлении дирижерского дебюта необходимо было предъявить партитуру собственного крупного сочинения. Да и сейчас, как приятно было бы, если б при поступлении в театр, и тем более на дирижерское отделение консерватории молодой музыкант представил партитуру пусть не крупного, а хотя бы совсем небольшого сочинения! Насколько легче было бы с ним разговаривать обо всем остальном! Да и отпала бы необходимость во многих вопросах, которые задаются на экзамене по специальности, зачастую весьма бессистемно.
В качестве маленькой интермедии расскажу о случае из совсем другой области, который как-то со мной произошел. Сидя за рулем машины, я допустил какое-то нарушение. Меня остановил инспектор, на мое счастье — очень деликатный, воспитанный, я бы даже сказал, обладающий широкими знаниями. Со словами «Придется с вами познакомиться», он попросил мои документы. Прочтя фамилию, спросил:
«Это что же, композитор?»
Я ответил:
«Да, дирижер» (я не сказал: «нет, дирижер», так как это могло осложнить наш диалог: возражать и перечить в таких случаях не рекомендовано). Он с недоумением на меня посмотрел:
«Я же говорю: композитор».
Автоинспектор обошелся со мной великодушно, я поехал дальше и подумал: так ли он неправ, считая эти два понятия тождественными?
Хочу быть правильно понятым: я не настаиваю на том, что дирижер обязательно должен сочинять. Обычно бывает даже наоборот: композитор, став дирижером, перестает писать музыку. Мой учитель — А. Ф. Гедике, который был очень близок с С. В. Рахманиновым, рассказывал с его слов о причине, побудившей великого композитора отказаться от дирижирования в Большом театре. В начале века С. В. Рахманинов еще совсем молодым музыкантом два года работал в Большом театре и проявил себя как выдающийся дирижер. Я никогда его не слышал, но всю жизнь нахожусь под впечатлением рассказов, услышанных от А. Ф. Гедике, В. И. Сука, С. И. Мигая, А. В. Неждановой и еще некоторых выдающихся музыкантов. И именно А. Ф. Гедике Рахманинов сказал, что необходимость проникать в чужие партитуры, становиться как бы их соавтором, сковывала свободу его собственного творческого мышления. К тому же, не все партитуры соответствовали его вкусам. А работа дирижера в опере — это служба. Хочешь — не хочешь, а случается, нужно дирижировать и тем, что не по душе. С этим в особенности Рахманинов не мог примириться. Любопытно, что как пианист Рахманинов в течение большей части своей жизни не отказывался от исполнения произведений других авторов. Видимо, в этом случае ему было легче переключаться.
Итак, не вступая в полемику с Римским-Корсаковым, я все же хочу насколько это возможно приоткрыть завесу над нашим «темным» делом. Чем еще должен быть вооружен дирижер? Композиторские навыки обязательны, но их одних недостаточно.
Дирижер обязан быть и исполнителем, то есть инструменталистом. Судьба может сложиться по-разному: к дирижированию приходят и пианист, и скрипач, и виолончелист, и флейтист, и контрабасист, как, например, Кусевицкий. Но каким бы инструментом они ни владели как исполнители, фортепиано им необходимо для дирижерской профессии. Дирижер должен мыслить многоголосно, а многоголосие реально можно воспроизвести только на фортепиано (не считая органа, пользование которым затруднено, аккордеона, очень ограниченного по своим возможностям, и арфы — инструмента, строящегося на диатонической основе. Что касается фисгармонии, то это тоже очень полезный для дирижера инструмент).
Изучение партитуры оставляет свой след только после того, как дирижеру удалось сыграть ее на фортепиано. В тех случаях, когда невозможно охватить всю партитуру целиком, всегда удастся сыграть ее, расчленив на несколько групп голосов, родственных по своим функциям. А когда все эти группы не только проанализированы, но и реально прозвучали, их всегда можно объединить в схему целого. Именно так развивается внутренний слух. Зрительно проникая во все детали партитуры, звуковым воображением надо воссоздать картину целого, окрашенного в определенные тембры. Тембры и их сочетания внутренний слух воссоздает на основании того, что в свое время было реально услышано на фортепиано. Но в партитуре постоянно встречаются новые сочетания, такие, каких раньше не было (вообще, или в памяти данного субъекта). В таких случаях внутренний слух может отказаться их воспроизвести, и бесполезно его насиловать. Станиславский постоянно говорил, что область подсознательного — самая деликатная и очень рискованно в нее вторгаться.
Читать дальше