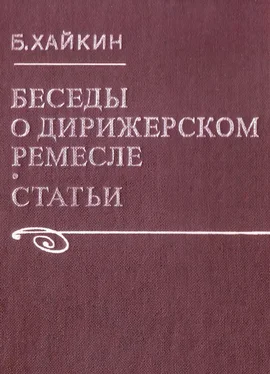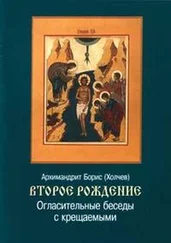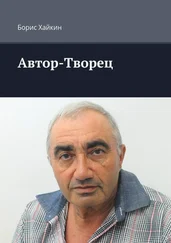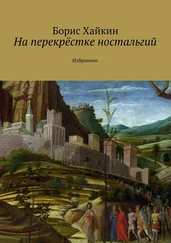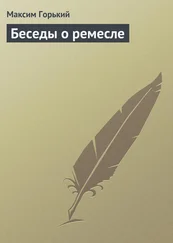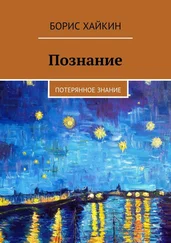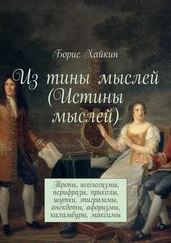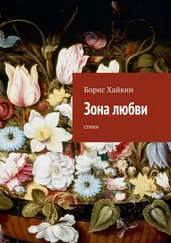Однако Отто Клемперер не был скрипачом, но был диктатором во всем, в том числе и в штрихах. Штрихи его были необыкновенно оригинальны, ярки, необычны. Кое-что из его штрихов унаследовано последующим поколением дирижеров. Как он приходил к этим штрихам — самостоятельно или с чьей-либо помощью — мне не пришлось у него спросить. Фриц Штидри также не был скрипачом. Штрихи ставил самостоятельно, очень смело, очень необычно и очень категорично. Курт Зандерлинг — пианист, в прошлом очень хороший оперный концертмейстер, ставит штрихи самостоятельно, с предельной тщательностью. Его партитуры в этом отношении отличаются завидной убедительностью. А. Мелик-Пашаев был пианистом (также, как Зандерлинг, он начинал оперным концертмейстером). Его рабочие партитуры отличались исключительной тщательностью. Штрихи он предпочитал проставлять сообща с концертмейстером оркестра (это во всех отношениях очень хороший метод), но к первой же репетиции в партиях были отмечены все подробности, так что редко возникали какие-нибудь вопросы.
Артист оркестра всегда о удовлетворением обнаружит, что его партия побывала в руках у дирижера. Это говорит о том, что дирижер продумал партитуру, что он достаточно подготовлен к репетициям, уважает труд артистов оркестра и заботится о том, чтобы работа протекала организованно и продуктивно. В. И. Сук не мог себе позволить встать за пульт, если перед этим все партии (!) не побывали в его руках. Долгие часы он просиживал сначала над партитурой, а затем над партиями. Никаких исключений не могло быть. Это касалось не только штрихов, но и нюансировки. В этом отношении партитуры Сука очень поучительны и я бы рекомендовал молодым дирижерам познакомиться с ними в библиотеке Большого театра, пока от них еще что-нибудь осталось. Современное поколение дирижеров, не знавшее Сука и соответственно не имеющее к нему должного почтения, довольно беспардонно вносит в партитуры свои собственные ремарки поверх руки Сука. Как назвать подобное отношение к столь драгоценному наследию?
Очень интересно работал А. М. Пазовский — выдающийся советский оперный дирижер. Он трудился над партитурой бесконечно долго. На первую же репетицию или спевку приходил с законченной концепцией и неукоснительно добивался ее реализации. Результаты были впечатляющими, хотя давались ценой большого труда.
Я до сих пор помню его «Сусанина», «Снегурочку», «Салтана» как образцы совершенства.
Совершенно особняком по тщательности отделки партитур и партий стоял К. И. Элиасберг. Штрихи у струнных, лиги и дыхание у духовых у него фиксировались с редкой педантичностью. Более того. У него был целый набор чертежных инструментов, которыми он для этой цели очень умело пользовался.
Прекрасный дирижер и замечательный педагог оркестра, Карл Ильич не умел и не желал приспосабливаться к несовершенным условиям, то и дело возникающим на нашем пути. Он со всей непримиримостью оговаривал и количество репетиций, и наиболее благоприятное для них время дня, и состав оркестра не только количественно, но и каждого исполнителя поименно, избегая тех артистов, с которыми он не находил общего языка, и многое другое. Нельзя было не соглашаться с его требованиями; они убедительны, естественны и мотивированны. Но слишком часто случалось, что при всем желании они не могли быть стопроцентно удовлетворены, а в этих случаях он, не колеблясь, отказывался от выступлений. Поэтому, прожив долгую артистическую жизнь, он так и не проявил себя настолько, насколько его одарила природа.
Сложилось так, что имя Элиасберга вполне заслуженно связывается с Седьмой симфонией Шостаковича. Появившись в разгар войны, эта гениальная симфония взволновала умы и сердца всех музыкантов. К тому же, она была посвящена Ленинграду, а в ту пору о Ленинграде и ленинградцах думали и с гордостью, и с большой душевной болью. Здесь и сказалось подвижническое отношение Элиасберга к искусству, достигшее кульминации в 1942 году. В осажденном, блокированном Ленинграде, подвергавшемся беспрерывному артиллерийскому обстрелу, мучимом голодом и холодом, Элиасберг исполнил Седьмую симфонию Шостаковича. Артисты-участники этого исторического концерта — рассказывали, что ослабевший, надломленный всеми лишениями дирижер, был, однако же, так же требователен и непримирим ко всему, что касалось исполнения.
Но когда, спустя 27 лет, в 1969 году праздновалось двадцатипятилетие со дня снятия блокады, и в Ленинградской филармонии было назначено исполнение Седьмой симфонии, Элиасберг по каким-то мотивам отказался дирижировать, и филармония обратилась ко мне. Если меня просили выступить вместо предполагавшегося ранее Элиасберга (а таких случаев было немало), я прежде всего звонил Карлу Ильичу и спрашивал, что его побудило отказаться? Бывало, что он не в ладах с дирекцией филармонии (что поделаешь, такой характер). А бывали более серьезные мотивы — он не может получить того комплекта нот, по которому играл эту симфонию в прошлый раз, или неприемлемы часы репетиции, исключающие возможность продуктивной работы, и т. п. Очень жаль, что такой знающий и организованный музыкант не преподавал в Консерватории. На конкурсах дирижеров его высказывания были всегда самыми интересными.
Читать дальше