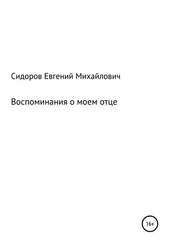Не могу передать чувство, которое нас объединяло (и разъединяло на время). Когда несколько лет назад умер Игорь, я впервые почувствовал зверскую усталость от жизни. Игорь Распопов был талантливым инженером, изобретателем, который в перестройку лишился точки опоры.
Но сейчас речь о Шурике. Впервые увидев его на школьной лестнице, я сразу понял: нам быть вместе.
Он, племянник Эммануила Казакевича, сын родной сестры писателя, жил и рос в барачном доме, в маленькой комнате, где на раскладушке складывали нежных дев по очереди, пока родители не пришли с работы. Девы имели прямое отношение к старшему брату Шурика — Борису, который работал мастером на одном из московских заводов и был весьма остроумен и любвеобилен. С Борисом, когда прогуливалась школа, под преферанс и умеренную пьянку мы любили сочинять всякого рода забавные и не совсем цензурные стихи, уважая не столько смысл, сколько аллитерацию и экстравагантную рифму.
Шурик, ставший впоследствии кандидатом технических наук, был исключительно музыкальной натурой (гитара, виолончель, фортепиано, иногда даже тромбон). В молодости он подрабатывал “лабухом”, играл в самодеятельных джаз-ансамблях. Но я помню и люблю наши последние школьные годы.
Я жил с няней, тетей Дуней, мамы и отца рядом тогда уже не было. Карманные деньги нужны были постоянно. Нас знали московские букинисты, включая продавцов нотного магазина на Неглинке. Мы потихоньку сдавали книги и ноты, слегка опустошая не только свои библиотеки, но и некую чужую, родственную, в доме в Лаврушинском.
Тогда покупали почти всё. Книг в продаже было очень мало. Но мы уже разбирались и стоящее не трогали. В магазин уходили Первенцев, Бабаевский, Павленко, Орест Мальцев и неведомый мне по сей день Шпанов, на которого тогда шла настоящая читательская охота. Они были упакованы в желтоватые полутвердые обложки издательства “Советский писатель”.
В комнате у Гуревичей я впервые стрелял из боевого пистолета. Вверх, в потолок. Пуля ушла наружу, оставив маленький, круглый след. Пистолет притащил наш одноклассник Толя Мязин, найдя его у отца в комоде. Я не знал, как и другие, что он был заряжен.
Этот пистолет фигурировал потом на суде в качестве вещественного доказательства. К моему удивлению, экспертиза признала, что из него не было произведено ни одного выстрела. Но ведь я сам выстрелил из него! Стало быть, так было надо для защиты. Судили молодежную банду, орудовавшую в подмосковных электропоездах. Среди подсудимых был мой приятель Игорь Горбунов, сын генерала МГБ из дома на Володарской улице. Он-то и позаимствовал оружие, дабы пугать им жертв грабежа. Горбунова забрали прямо на наших глазах с урока в десятом классе. “Комсомолка” подробно описала эту уголовную историю.
Когда через четыре года Горбунов вернулся из колонии, я впервые по его совету попробовал курить “план” — легкий наркотик, набиваемый вместо табака в гильзу “Беломорканала”.
Все это было, но было и другое. Мы с Гуревичем и Распоповым (иногда к нам прибивался одноклассник Сережа Вескер) почти каждый вечер гуляли по бульварам и набережным, ходили в читалку музея Маяковского в Гендриковом переулке, где безотказно выдавали книги поэтов Серебряного века, репетировали с девочками из соседней женской школы “Гимназистов” К. Тренева и бредили стихами, особенно Блоком.
Шел тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год, год любви и надежды.
Полковник в отставке Борис Иосифович Кельбер с неизменной сигаретой в длинном мундштуке и с безукоризненным маникюром лениво и слегка надменно посматривал на наши стриженые головы. Его синий костюм, наподобие френча, был украшен орденскими планками. Разумеется, он всегда был в белой рубашке и, конечно, при галстуке. Что неудивительно, ибо в наше время в школе без галстука мог появляться только один педагог — учитель физкультуры Сергей Михайлович Захаров, мастер спорта по гимнастике.
Каким ветром занесло к нам блистательного Б.И. Кельбера, совершенно неведомо. Он совсем недавно служил военным переводчиком, был контужен в Германии, присутствовал в Потсдаме при подписании капитуляции и вдруг опустился до внедрения в наши тупые мозги немецких глаголов. По каким-то деталям в разговоре, теперь, задним числом, я понял, что в его судьбу вмешалась борьба с космополитизмом, где жертвами были и достаточно мелкие сошки. Во всяком случае, всегда вспоминаю его с благодарностью, ибо он, сам того не зная, привил мне любовь к немецкоязычной поэзии. Уже в университете я перевел несколько стихотворений Гейне и, заглянув в Левика, нахально решил, что у меня не хуже.
Читать дальше