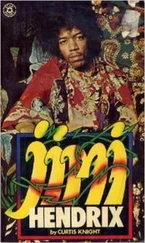Лил обрадовалась, но мне стало немного не по себе, когда она сообщила, что навестит меня в Лондоне и хочет познакомиться с Джими. Спустя несколько дней поезд привёз её на Euston вокзал, и она появилась в дверях нашей квартиры. Она была по–прежнему самовлюблённой дурой, какой я её помнила, но это больше не доставало так меня как прежде. Она упорно скрывала свой возраст, она даже не позволила выбить дату рождения своей матери на её могиле. Она и мой возраст всегда уменьшала лет на 15. Однажды, она уверяла каких–то своих знакомых, что это мой 21–ый день рождения, тогда как мне уже исполнилось 35.
— Зачем ты сказала, что мне 21! — запротестовала я, когда мы остались наедине.
— А что в этом плохого? — хотела она узнать. — Ты выглядела сегодня на 18!
— Люди подумают, что ты дура, — настаивала я, а самой было приятно, что они посчитали меня моложе на 20 лет.
Это было у неё в крови, ведь Чёрная Нана умерла только из–за того, что соврала доктору, что её всего 82, в то время как ей было уже 96, и он подписал разрешение на операцию, которая убила её. Если бы знали её истинный возраст ей никогда бы не стали делать анестезию.
Лил спелась с Джими. Две цыганские души нашли друг друга. Пока она была дома, Джими был как приклеенный. И он бросался открывать дверь, только услышав её шаги, стал покупать ячменное пиво, когда узнал, что это её любимый напиток. Для Лил никогда не стояло проблем заговорить с незнакомыми людьми, а Джими всегда находил общий язык с матерями (мать Ноэла Реддинга в нём души не чаяла), рассказывая как бы он был счастлив, если они бы усыновили его. И меня и Джими съедала тоска по простому родственному общению, мы оба пережили потерю матерей. И я была рада, что он нашёл общий язык с Лил.
Мы решили пригласить Лил в ресторан на Мэдокс–Стрит, ресторан так и назывался — Mad Ox. Мне было немного неловко, так как я чувствовала, что я должна что–то для неё сделать, это ощущение рождалось во мне всегда, когда она была рядом. Я всегда воспринимала её, как моё Вечное Несчастье. Однажды мы всё же наладили отношения, но они свелись к тому, что раз в году мы стали созваниваться.
— О, Катлин, — обычно она говорила, — я так рада, что ты позвонила, я совершенно вся расклеилась… — и затем начинался нескончаемый монолог, о том какая она несчастная и что и как у неё болит. Всё, что требовалось от меня, это временами подхрюкивать ей: «Да? О, нет, что ты, дорогая! Это просто ужасно! Бедняжка!» и прочие ничего незначащие фразы, вставленные в нужный момент. Монолог никогда не прерывался, чтобы узнать, как моё здоровье, или чем я сейчас занята.
Она никогда не вспоминала прошлое и не рассказывала ничего из нашего детства. Если я пыталась вызвать её на откровение, она только махала рукой и вопила, как если бы я в этот момент накидывала на её шею верёвку: «О, Катлин, перестань! Не будем об этом говорить! Я никогда не смогла бы ужиться с твоим отцом, — вырывалось у неё откуда–то изнутри, — он ужасный человек!» Но мой отец никогда не смог бы быть таким, каким она его описывала, он не был способен на это, у него просто не хватило бы сил.
Постепенно народ узнал, где мы живём, в основном из–за Джими — он всем раздавал наш адрес. Никакой плотине не уберечь бы нас от непрерывного потока посетителей, которые запрудили всю нашу лестницу, воспользовавшись открытой входной дверью, и звонили нам в дверь, каждый раз, как стихала музыка у нас дома. Большинство пытались ему всучить разные побрякушки или дорогие амулеты, якобы сделающие его счастливым. Один такой продавец, звали его Томми Веббер, приходил всё время с длиннющей девицей, Шарлоттой Рэмплинг, можно сказать, она мне понравилась. Она уже успела стать кинозвездой и снялась в фильме Georgy Girl вместе Линн Рэдгрейв.
Однажды позвонила одна девушка, назвалась Каролиной Кун, и сказала, что хочет взять интервью у Джими для своего журнала. Она пришла не одна, с ней было двое, один из них, явно фотограф. После того, как я их впустила, она сказала, что ей необходимо переодеться.
— Конечно, — сказала я, ничего не подозревая, — ванная комната наверх по лестнице.
Она собралась тащить сумку с одеждой наверх, чтобы переодеться. Те двое, переглядываясь, пытались что–то мне объяснить, но их разъяснения сводились к многозначительным намёкам на её фамилию, после чего она сказала, обращаясь к Джими:
— Я бы хотела с вами сфотографироваться и, если не возражаете, хотела бы для этого переодеться.
— Переодеться во что? — изумлённо спросил Джими.
Читать дальше
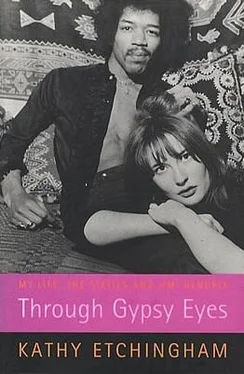

![Мик Уолл - Жизнь и смерть Джими Хендрикса [Биография самого эксцентричного рок-гитариста от легендарного Мика Уолла] [litres]](/books/387909/mik-uoll-zhizn-i-smert-dzhimi-hendriksa-biografiya-samogo-ekscentrichnogo-rok-gitarista-ot-legendarnogo-mika-uolla-litres-thumb.webp)
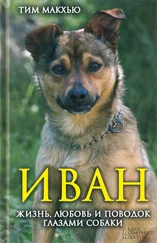

![Шэрон Лоуренс - Джими Хендрикс, Предательство [Интимная история преданной музыкальной легенды]](/books/406514/sheron-lourens-dzhimi-hendriks-predatelstvo-intim-thumb.webp)