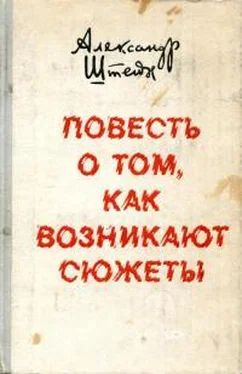К пустой голове, говорят военные люди по этому поводу, руку не прикладывают.
Выпил? Да он — непьющий.
Все очень просто. Подъезжая к месту назначения, высунулся в вагонное окно, жарко было, ветерок так приятно обдувал с моря, синевшего неподалеку, уже вылупилась первая строчка стихов про нежную дымку, марево и рыбачий парус, дунул ветер и унес лейтенантскую фуражку с золотым крабом.
Честный, непьющий, талантливый, благородный, искренний, за товарища душу отдаст, гадость не сделает ни при каких обстоятельствах — не так мало. И — не счесть неприятностей, причиненных начальству, семье, себе.
Как такой юноша мог попасть на флот?
Дядя, что ли, поворожил, поскольку дядя служил на флоте, писал про флот, не растерял связей с флотом?
Никак нет.
Ничему я так не изумился в свое время, как известию о том, что на плечах моего племянника — погончики курсанта военно-морского училища. Написал в Ленинград и узнал, что племянник, окончив школу, побежал в райком комсомола, сдал экзамены по доброй воле, по личной инициативе, никто не присоветовал, наоборот, домашние — отговаривали.
Я ломал голову, силясь понять, почему — на Военно-Морской Флот? Необъяснимо. Ну, торговый, куда ни шло — Джек Лондон, Стивенсон, пятнадцать человек на сундук мертвеца, ий-о-хо-хо, сто чертей и бутылка рома! Но — Военно-Морской Флот, с его неукоснительным уставом, жесткостью корабельного распорядка и «кромешуточной» дисциплиной — сие противопоказано моему сродственничку, как говорится, «более чем».
Разгадка пришла несколькими годами позже — письмом в стихах.
Все разъяснилось. Я все понял.
Ему было тринадцать лет, когда я временно забрал его к себе, из Ленинграда в Москву.
Мальчик хлипкий, незакаленный.
Душным июльским воскресным днем мой друг, Арсений Григорьевич Головко, работавший тогда в Москве, в Главном морском штабе, любезно пригласил меня прокатиться, прихватив малых ребят, мою дочку и племянника, на катере по Москве-реке, с ветерком…
Это было прекрасно — в Химках нас ждал катер, мы поднялись на его палубу, катер ринулся, вздымая на речной глади почти морскую волну. Путешествие было бы вполне удачным, не выскочи из-за холмов ветер, тоже почти морской. Стало холодно, неуютно. Я посмотрел на племянника — руки в лягушачьих пупырышках, рожица посинела.
Глянул на моего племянника и адмирал. Поморщился. Не понравилось.
Скомандовал матросу:
— Мальчишку — в машинное!
А мне шепнул:
— Да. Моряком не будет.
У мальчика оказался тонкий слух. И — самолюбие.
Сменив погоны курсанта на лейтенантские, четырехстопным ямбом объяснил мне, как решила его судьбу брошенная невзначай адмиральская фраза.
А в 1956 году тот же адмирал Арсений Григорьевич Головко пригласил меня в Балтийск, он тогда командовал Балтийским Краснознаменным флотом.
В случайно возникшем разговоре я припомнил адмиралу его давно забытую им самим фразу, сказал о том, как она, эта случайная фраза, превратила незакаленного, болезненного паренька с перманентными ангинами и насморками в крепкого, обливающегося по утрам ледяной водой, не поддающегося никаким хворобам юного лейтенанта.
— Стало быть, мой крестник?
— Выходит.
— Где плавает?
— Вроде бы у вас, на Балтике, где — точно не знаю. Не подавал признаков более года — в его манере.
— Ну, племянничек…
Был вызван расторопный «флажок» — флаг-офицер, справки наведены по-быстрому, и часом позже на машине командующего я был отправлен в базу дивизиона катеров-охотников. Автомобиль командующего сам по себе был в этих далековатых местах своего рода колоколом громкого боя — навстречу ЗИЛу, застегивая шинель на ходу, сбежал по трапу командир дивизиона.
Правда, несколько разочаровался, когда из машины вылез вполне штатский товарищ. И смутился, когда сопровождавший меня флаг-офицер разъяснил цель визита. В еще большее смущение повергла эта цель командира катера, на котором служил мой племянник.
— Выйти к вам лейтенант не имеет возможности, — пробормотал командир катера, переведя взгляд на комдива. Тот отвел глаза.
— Болен? — наивно осведомился я.
— Никак нет. Под домашним арестом. При каюте.
Пришла очередь отвести глаза мне.
Уходя на берег, в увольнение, позабыл племянничек в каюте тетрадку.
Ненароком, черт бы его побрал, жил он раньше в Ленинграде на углу Литейного и Бассейной… Рассеянный с улицы Бассейной… Тетрадку следовало — в сейф. Ну вот и отбывает положенное уставом дисциплинарное взыскание.
Читать дальше