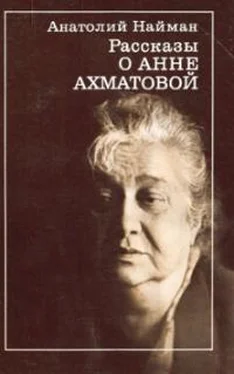В мае Бродскому исполнялось двадцать пять лет, и мы с Рейном к нему отправились. Когда с тяжелыми рюкзаками подошли к дому, дверь оказалась на замке, и тут же подбежал Пестерев, крича издали: «А Ёсиф Алексаныч посажбнный!» За нарушение административного режима его увезли в Коношу и там приговорили к семи суткам тюрьмы. Через час появился грузовик в сторону Коноши, и я двинулся в обратный путь. Коношская тюрьма помещалась в длинном одноэтажном доме, сложенном из толстых бревен. В ту минуту, когда я подходил к ней, Бродский спускался с крыльца с двумя белыми ведрами, на одном было написано «вода», на другом «хлеб». Он объяснил мне, что все зависит от судьи, а судья сейчас в суде, точно в таком же доме напротив. Я стал ждать судью, подошел мужичок, попросил закурить. Поинтересовался, по какому я делу, и, узнав, сказал, что судья сейчас свободен, в суде перерыв, судят же убийцу, а именно его, дадут восемь лет, так прокурор просил. Зарубил жену топором, пьяный был, сам ярцевский, в лагерь в Ярцево и пошлют, это станция через одну от Коноши. Вежливо попросил еще пару сигарет на потом,' я отдал пачку, тут появился судья, и убийца исчез за какой–то дверью. Судья мне в просьбе отказал, я пошел к секретарю райкома в дом, ближайший к суду, перед ним стоял бюст Ленина серебряного цвета. Секретарь был моих лет, с институтским значком, серьезный, слушал меня без враждебности. Набрал по телефону трехзначный номер, сказал: «Ты Бродского выпусти на вечер, потом отсидит^ Круглая дата, друг приехал», — выслушал, видимо, возражения, повторил: «Выпусти на вечер», — повесил трубку и мне: «В буфете вокзальном отдохните» (в смысле отпразднуйте день рождения). Я сказал, что в деревне ждет еще один человек, что там водка и закуска, дайте уж сутки. Он подумал и согласился на сутки. Когда я выходил из дверей, он сказал, что учился в Ленинграде, и спросил, сколько уже станций в ленинградском метро. Я перечислил. «Почему он патриотических стихов не пишет?» — сказал он и отпустил меня. Попутных машин в этот час не ожидалось, и мы с Бродским и еще одним ссыльным, с которым он там свел знакомство, зашагали не мешкая в сторону Норинской. На середине пути находилась деревня, где жил бригадир, по чьему заявлению Бродский и попал под арест, так что деревню надо было обходить стороной. К счастью, метров за сто до нее нас догнал грузовик и вскоре довез до места.
11 сентября я получил телеграмму из Комарова: «Ликуем — Анна, Сарра, Эмма». Сарра Иосифовна Арене вела хозяйство Ахматовой, Эмма Григорьевна Герштейн тогда гостила у нее. Ликование было по поводу того, что Бродский наконец на воле. Этому предшествовало несколько ложных обещаний скорого его освобождения. В октябре 1964 года я встречал в Ленинграде Вигдорову, ехавшую из Москвы собирать подписи тех, кто хотел поручиться за Бродского перед властями. Ступив на перрон, она воскликнула: «Толя, победа!» В Прокуратуре СССР ей сказали, что его вот–вот выпустят, В том же уверяли перед поездкой в Лондон Ахматову в Союзе писателей.
Разумеется, «дело Бродского» по сравнению с «тридцать седьмым» было «бой бабочек», как любила говорить Ахматова. Оно обернулось для него страданиями, стихами и славой, и Ахматова, хлопоча за него, одновременно приговаривала одобрительно про биографию, которую «делают нашему рыжему».
«Реквием» начал ходить по рукам приблизительно в те же дни, в тех же кругах и в стольких же экземплярах, что и запись процесса Бродского, сделанная Вигдо- ровой. Общественное мнение бессознательно ставило обе эти вещи и во внутреннюю, хотя прямо не называемую, связь: поэт защищал свое право быть поэтом и больше никем, для того чтобы в нужную минуту сказать за всех. Стенограмма суда над поэтом прозвучала как гражданская поэзия; гражданская поэзия «Реквиема» — как стенограмма репрессий, своего рода мартиролог, запись мученических актов.
Стихотворения военного времени в цикле «Ветер войны», которые заслужили Ахматовой официальное одобрение и официальный перевод из камерных поэтесс в поэты общественного звучания, были написаны в той же манере, что и «Реквием», точнее — в истощении этой манеры. В промежутке между «Реквиемом» и «Ветром войны» появились стихи, принадлежавшие и той и этой теме. Война с Финляндией 1939— 1940 годов наложилась на аресты и тюремные очереди предшествовавших лет, и посвященное зиме «финской кампании» стихотворение «С Новым годом! С новым горемЬ звучит в реквиемной тональности:
И какой он жребий вынул Тем, кого застенок минул? Вышли в поле умирать.
Читать дальше