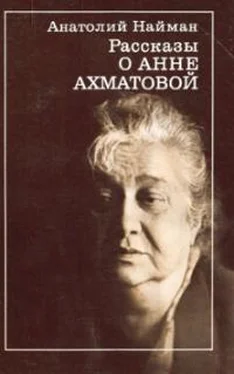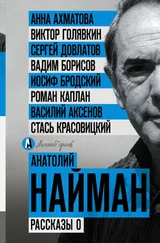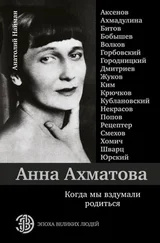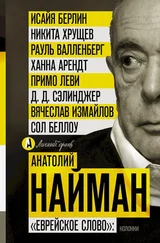Ее муж, Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты и с переменным успехом изобретавший новые, зарабатывал на свою немалую семью и сменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы — от «Вестника ЦСУ» до «Крокодила» — юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой–нибудь сатирик из провинции или конферансье. Речь его была яркой даже в тех случаях, когда яркости не требовалось, на всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседника он провоцировал на рассказ таких же историй, Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов, в разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые ими по поводу, а можно и без повода, истории, помесь деградировавшего «Декамерона» с увядшей «Тысячью и одной ночью», что–то вроде шлепанья через томительные пяти– и десятиминутные промежутки картами в игре «свои козыри». И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора, начинал рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно–сочувственной интонацией приговаривая невпопад: «Ай–яй–яй. Да, да, вообще, знаете ли…» Когда Ахматова спросила у Нины Антоновны, как ее внучка обращается к отчиму, и, узнав, что по имени, одобрила: «Так и нужно. Папой надо называть папу, мамой маму…» — он, проходивший мимо, тут же подхватил: «…дядей дядю, снохой сноху, шурином шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список, подам вам, ладно?»
Кроме Баталова, к тому времени жившего уже отдельно, у них было еще два сына, Михаил и Борис, родившихся незадолго перед войной. Оба выросли на глазах у Ахматовой, оба в какой–то мере были воспитаны ею, фактом ее присутствия в их доме. Михаил, литературно одаренный, усвоивший отцовскую живость, насмешливость и остроумие, был прозван ею Шибановым в честь воспетого А. К. Толстым стремянного, верного своему князю до смерти. «Но слово его все едино», — декламировал он, усаживая ее в такси, и она без выражения продолжала: «Он славит сваво господина». Борис, служивший актером в театре «Современник», назывался «артист драмы», как герой известного рассказа Зощенко. Он обладал безошибочным чутьем на фальшь и ложь и даром лицедейства, мгновенно преображавшим его в премьер–министра на трибуне ООН, в поэтессу, рассказывающую Ахматовой о своем успехе, в мерзнувшего у подъезда шпика. Принесенная им частушка:
Дура, ДУР ®. ДУра я. Дура я проклятая. У него четыре дуры. А я дура пятая, —
была ею тотчас оценена и пополнила арсенал: «Это я. И это мои стихи». В домашнем употреблении была и другая, сочиненная Михаилом еще в бытность студентом–филологом, по поводу визита к Ахматовой академика Виноградова и одобренная ею, «узкоцеховая» частушка:
К нам приехал Виноградов, Виноградова не надо. Выйду в поле, закричу: Мещанинова хочу 1
«Миша–беспощадник», — улыбалась она.
У обоих «мальчиков» Ардовых был хороший вкус, проявлявшийся, правда, наиболее выразительно в отталкивании от вещей дурного вкуса. Многое в литературе и в искусстве они получали из первых рук: например, им, еще детям, позволили сидеть в гостиной, где Пастернак для Ахматовой и для хозяев читал только что переведенные куски «Фауста», и, слушая сцену в кабачке, они засмеялись, на них зашикали, но Пастернак сказал, что и должно быть смешно. Как большинство людей, приученных смотреть на литературу как на живое дело, а не как на стоящие на полке книги, они не благоговели перед ней, не говорили о ней с придыханием и вообще больше были гуляки, выпивохи и любители приключений, чем книгочеи. Особенно Борис, с середины дня до позднего вечера пропадавший в театре. И поэтому когда он ослепительным зимним полднем, щурясь на свет, вышел из ванной с «Карамазовыми» под мышкой и скрылся в своей комнате, Ахматова показала мне на него глазами и с деланным ужасом прошептала: «Вы видели? Достоевский!» — «И что?» — «Как что? Маяковский за всю жизнь не взял в руки ни одной книги, потом вдруг прочел «Преступление и наказание». Чем это кончилось, вы знаете…»
Матери хозяина было под девяносто, она переехала на Ордынку, чтобы не жить одной и чтобы передать свою комнату внуку. «Вы замечали, — сказала Ахматова, — что старики в этом случае становятся бессмертными?» В голове у нее нередко что–то путалось, она могла поставить на газ телефонный аппарат, чтобы согреть воду. Провинциальная благовоспитанная старушечка, раз в неделю она приглашала к себе столь же почтенных дам и господ играть в карты, и однажды Нина Антоновна, внеся в ее комнату поднос с чаем, обнаружила их всех замершими, сосредоточенно глядящими на одинокую карту, лежащую посреди стола, и спросила, в чем дело. «Видишь ли, Ниночка, — объяснила свекровь, — кто–то зашел с туза, но мы не помним кто». И вот в очередное утро выйдя к завтраку и сев напротив Ахматовой, она уставилась на нее, глядя снизу вверх, и после долгого рассматривания в полной тишине произнесла: «Как все- таки, Анна Андреевна, все мы деградируем!» — и опять воцарилась тишина. По реакции окружающих почувствовав, что сказала что–то не то, через минуту она объявила светским тоном: «Вчера мы играли в преферанс…» «Вы играли в ргё£ёгапсе? — не пощадила ее, мгновенно перебив, Ахматова. — Вы — не деградируете».
Читать дальше