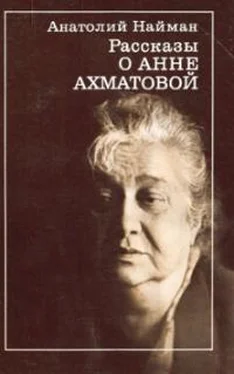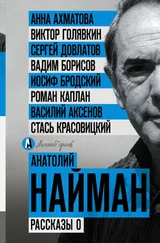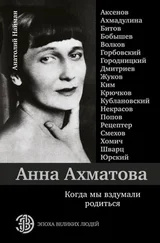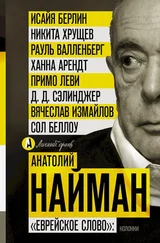Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишнюю, но и ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять–таки на 24 июня по старому, 7 июля по новому, стилю. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих утверждений л намеков благодушно–иронической литературностью, что магия, приписываемая этой ночи, ее обряды, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью — кладов, купание и т. д., так же как и весь круг мифов, связанных с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, были усвоены ею как бы вследствие уже самого факта рождения в этот день.
Это усвоение, как сейчас принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось с проникновением — или намерением проникнуть — в области действия тех таинственных сил, внешний след которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь» — не поэтическая фигура, если вернуться к воспоминанию В. С. Срезневской о «лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас 1 она лунатик!»)». Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, «подружилась с морем», «плавала, как щука», по оценке свидетелей; и еще «знали соседи — я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место», как повествует поэма «У самого моря». Отсюда в ее стихах русалка, морская царевна и, наконец, китежанка; из лунатизма — сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой.
Тут была игра — и не игра. Шутка — и питательная среда ее поэзии. Стилизованные под сказку древние руины — и склубление невымышленной энергии, из которой черпала силы ее невымышленная муза. В этой тяге к «запретнейшим зонам естества», в культивировании сверхобычных свойств натуры, «шестых чувств» (а они у нее были: вещие сновидения, чтение мыслей, разгадка примет, «выдразнивание» встреч, вестей и т. д.), тоже- сказывалась ее принадлежность «своему времени», началу века с его повышенным интересом к теософии, антропософии, оккультным знаниям. «Это нам известно, — сказала она однажды, соединив большие пальцы рук и широко раздвинув остальные: положение кистей на спиритическом сеансе. — Недавно давали пять лет за один такой жест». Дело было в Комарове зимой, мы с Бродским и Мариной Басмановой, его подругой, зашли к Ахматовой в гости, Заговорили о спиритизме, я рассказал, что двое моих приятелей клянутся, что вызвали духов Гёте и Лебедева–Кумача, те явились одновременно и застряли в дверях. Она сказала, что относится к столоверчению враждебно, считая его занятием безнравственным, и сослалась еще на довод Модильяни: «Разве мне было бы приятно узнать, что кто–то может вызвать тень моей покойной матери? А впрочем, — закончила она, — возьмите словарь Брокгауза на букву «С» и прочтите статью Владимира Соловьева «Спиритизм», очень толковую». (Потом она дала нам десятку и послала в магазин за водкой и закуской. Стоял мороз, ночное небо было безоблачно, все в ярких звездах. Бродский узнавал, или делал вид, что узнает, созвездия, потом спросил меня: «А-Гэ, а почему, объясните, по науке, в северном полушарии не виден Южный Крест?» Я сказал: «Возьмите словарь Брокгауза на букву «А» и прочтите статью «Астрономия». аА вы, — сказал он тотчас, очень довольный вовремя пришедшим в голову каламбуром, — возьмите словарь Брокгауза на букву «А» и прочтите статью
«Астроумие».}
Мир, не замечающий внутреннего противоречия в безгрешной радости от греха, в освященной небом земной страсти, в примирении Христа с Велиаром, — это иллюзия, создание которой подвластно одной поэзии. Создание, создавание которой, собственно, и значит «поэзия» в исходном, греческом ее применении. Подвластно — и необходимо ей: «протертый коврик под иконой» обостряет впечатление от «веселой грешницы» до предела, одно без другого не работает, поэзия — в их непременной совместимости и одновременности.
Через печальную благодарность, пусть и не без кощунства выраженную, за избавление от страсти:
Читать дальше