Сам Леонид Александрович при общении с множеством людей стремился использовать каждую минуту для дела. Помню, как за ужином в арбатском полуподвальчике – мастерской начинавшего тогда иконописца Леонида Курзенкова он, отлив на газету чуточку кофе, показывал, как на иконе делать пальцем растушевку между санкирем и охрением. Не любивший говорить о себе, он рассказывал больше об «иконном деле» (Это его выражение я использовал в названии одной из посвященных ему статей). Причем его рассказы были напрочь лишены педантизма узкого профессионала и сопровождались то веселой шуткой, то повествованием о каком-нибудь интересном событии. Этому в немалой степени способствовало участие в беседах острой на язык Лидии Александровны, с ее умением вести разговор содержательный, и вместе с тем, оживленный. Помню, как поразил меня и, одновременно, пристыдил ее рассказ о распорядке работы Леонида Александровича. До глубокой старости он работал по тринадцать (!) часов в день. Отдыхом ему служил переход от одной работы к другой. От писания икон он переходил к резьбе по дереву, от нее – к чеканке по металлу. Таким образом, им было создано множество прекрасных икон, крестов и других предметов церковного обихода в различных техниках. Еще были уроки иконописи, которые он давал в течение сорока лет у себя дома и при парижском Трехсвятительском подворье Московской Патриархии на рю Петель. Субботы его были посвящены исключительно работе над теоретическими статьями и делом всей жизни – книгой «Богословие иконы Православной Церкви», вышедшей в свет уже после его кончины. По воскресеньям – обязательное посещение супругами литургии и общение с друзьями и знакомыми. И так сорок с лишним лет, и рядом с ним была его верная супруга и помощница. Нам, тогдашним, жившим в России, и не снились подобная дисциплинированность и строгий распорядок всего жизненного уклада.
Воспользоваться полученным от Успенских официальным приглашением приехать в Париж я так и не смог, поскольку был «невыездным» – бытовал тогда такой термин по отношению к лицам, которым советские власти почему-либо отказывали в разрешении на поездки заграницу. Но и, десятилетия спустя, живо помню, по многолетним встречам в Москве, рядом с задумчиво курящим трубку Леонидом Александровичем элегантную, стройную, всегда подтянутую Лидию Александровну, непременно в туфлях на высоких каблуках, в неизменном черном платье из тяжелого шелка, красивую ее седую голову с высокой, заколотой старинным гребнем прической, ее породистое горбоносое лицо. Помню, с каким любезным достоинством поблагодарила она однажды двух молодых людей, вскочивших перед супругами в вагоне московского метро. «Патронушка! – громко и удивленно воскликнула Лидия Александровна, нам уступают место!» И пояснила при этом, что в Париже такое не принято. До конца своих дней буду хранить в памяти мягкое, как бы чуть рыхловатое лицо Леонида Александровича, его добрые, уже близорукие глаза под толстыми стеклами очков, которые озорно вспыхивали, когда разговор заходил о чем-то смешном.
Лидия Александровна вела огромную деловую и личную переписку мужа на русском, французском, английском языках. И еще ей суждено было стать его первым биографом – автором всех опубликованных и архивных справочных материалов о его жизни и творчестве. Ее перу принадлежит первое его довольно подробное «Жизнеописание». И сам он отвечал на эти заботы с внешне сдержанной, но нежной любовью и благодарностью. В самом сходстве их имен «Лидия» и «Леонид», также как и в совпадении отчеств, казалось, был заложен символ их близости. Хорошо помню эту трогательную пару пожилых, уже седых людей, поздней осенью неторопливо идущих под руку по московским улицам и приятно удивлявшуюся малому количеству автомобилей: «Совсем как в Париже летом!»
Вспоминаю с ними встречу, едва ли не первую… Немногочисленные тогда сотрудники Рублевского музея тесной группой сидят у окна в фондах, рядом со стеллажами со стоящими в них громадных размеров иконами. Здесь весь музейный коллектив – кроме старших Ирины Александровны Ивановой и Брониславы Яковлевны Черняковой, все молодые и пока без отчеств: главный (он же единственный) хранитель, уже бородатый Вадим Кириченко, реставратор – очкарик Кира Тихомирова, научные сотрудники Мирочка Даен, Аля Куклес, я – для своих коллег тогда просто Валера, недавно поступишая в Музей Лиля Евсеева и музейный библиотекарь Юля Фрумкина. Леонид Александрович с какими– то бумагами в руках, не теряя времени на разговоры, начинает нечто вроде доклада – критический разбор работы о. Павла Флоренского «Иконостас», которой мы все тогда увлекались. Оценивая эту работу в целом достаточно высоко, Успенский отмечает в ней существенный и принципиально важный недостаток – неверный перевод Флоренским греческого слова «тэхнэ» как «техника». В результате, известное соборное определение неправильно понимается им, что сотворение иконы – дело святых отцов, а иконописцам принадлежит лишь техническое исполнение. «Это грубая ошибка с далеко идущими последствиями – подчеркивает Леонид Александрович, на самом деле, «тэхнэ» по-гречески значит «искусство». Не отрицая того несомненного факта, что иконописец всегда работает в духе святоотеческой традиции, Успенский подчеркивает, что дело церковного художника – именно искусство – вся полнота замысла иконописного произведения и ответственности за его эстетическое воплощение…
Читать дальше

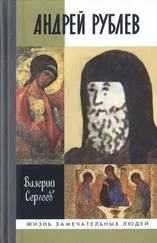
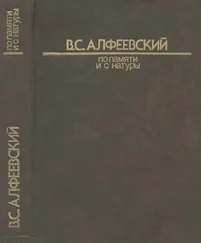







![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)

