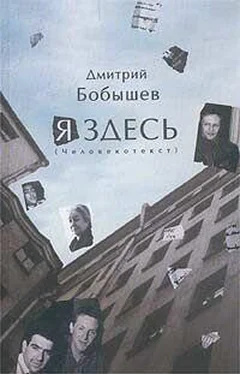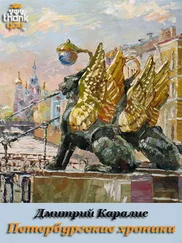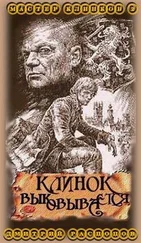“Окололитературный трутень” и прочие сорняки
Но освободиться от них оказалось совсем не так просто. Настала беда в виде печально прославленного фельетона в “Вечёрке”, и надо было, наоборот, сплотиться. А — как? После того, что произошло, друзьями мы уже быть не могли, тем более что и сожалений от него не последовало, а вот союзниками — да, мы просто должны оставаться, хотя бы из чистой солидарности. А как же иначе? Ведь предстояла еще жизнь в той же литературе и в одном, что называется, литературном стане. К тому же фельетон, помимо его лживости, был и угрожающим, и опасным не только для его главного героя. Одним из трех авторов, его подписавших, оказался Яков Лернер, тот самый “Яшка из Техноложки”, бывший завклубом, когда-то укравший рулон бязи и нажившийся на незаконных гастролях институтской самодеятельности, тот, кто громил нашу газету “Культура”, кто секретно и печатно доносил на нас, на меня и моих товарищей, — теперь он снова всплыл на поверхность!
По “клеветонам” с пахучими названиями ленинградская пресса соревновалась с московской, но “Вечёрка” под водительством главреда А. Маркова слыла чемпионом в этом занятии, опередив даже “Ленправду”. Впрочем, все они без удержу крокодильствовали, выдирая “сорную траву с поля вон”, обзывая “навозной мухой” Рому Каплана, практиковавшего свой английский в общениях с иностранцами, клацая зубами на “бездельников, карабкающихся на Парнас”, то есть “Н. Котрелёва, С. Чудакова, Г. Сапгира, Д. Бобышева и некоторых других”, на Мишу Ерёмина с его “боковитыми зернами премудрости”, на Уфлянда с Виноградовым, а теперь вот “окололитературным трутнем” был назван Иосиф.
Опасность этого фельетона заключалась в том, что он кивал на недавно принятый “Указ о борьбе с тунеядством”, который под тунеядцами подразумевал “лиц, живущих на нетрудовые доходы”, то есть воров, нищих и проституток, но фельетонщики подзуживали судебные власти расширить действие указа и применить его по идеологической части. Тогда под него подпадал бы Бродский, но и не только он, а многие и многие. В Питере в ту пору все время возникали подозрительные инициативы: “Сделать Ленинград городом идейной чистоты”, например. Опять, как в эпоху “стиляг”, стали действовать “народные дружины”, гонявшиеся за фарцой и самиздатом, а заодно поживлявшиеся любым уловом. Одной из таких дружин предводительствовал Яков Лернер.
Ахматова тревожилась за Иосифа, и она советовала ему оберечься. Беспокоилась и за Наймана, разделавшегося с инженерией и заодно с регулярными заработками. Эта ее тревога заметна в биографической книге Аманды Хейт, написанной “по горячим следам”. Рейн тоже существовал, если судить с эдакой точки зрения, на птичьих правах, расклевывая в Москве корку “черствого пирога, да и то с чужого стола”, как о нем позднее высказался Евтушенко. Защищенней, чем все, был я, трудоустроенный в п/я 45, но оказавшийся впутанным в тот паршивый фельетон больше, чем кто-либо. Дело в том, что Бродского попрекали “стихами, чуждыми нашему обществу”, приводя… мои тексты! Как могла такая чушь и путаница вообще произойти?
Очень просто. Дружинники замели в Доме книги самиздатского энтузиаста по кличке “Гришка слепой” с ворохом бумаг, застав его там как раз за их распространением. Несмотря на такую пренебрежительную кличку, Григорий Ковалев был настоящим подвижником неподконтрольной поэзии, которую страстно любил, а на поэтов глядел с буквально слепым обожанием. Он был у меня незадолго до этого, той осенью, любовно скандировал наизусть мою “Наталью” (а я уже и помнить ее не хотел), остатками зрения выверял опечатки, поднося тексты на расстояние миллиметра от глаз. Когда его загребли с бумагами, у него находились, конечно, наши стихи (и неизвестно, в каком порядке), а дружинники были лернеровские. Так что — понятно. Неясным оставалось лишь то, как теперь действовать и как это скоординировать с тем, что собирается делать Иосиф, и я решил отправиться к нему, уже не как друг, а как союзник.
Он встретил меня, словно ждал моего прихода. Про инцидент и не вспомнил, будто ничего не произошло (но ведь произошло же). На мой вопрос, что он собирается предпринимать, ответил вопросом:
— Зачем?
— Как “зачем”? Чтобы защищаться. Доказать, например, что стихи — не твои. Я готов свидетельствовать где угодно, предъявить рукописи…
— Дело совсем не в стишках…
Проглотил я и эти “стишки” — надо было договориться о главном.
Читать дальше