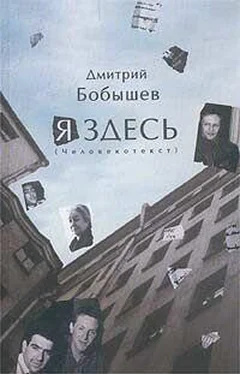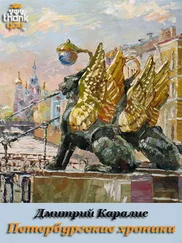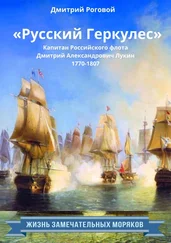Мы с ней подружились именно потому, что я ей не поверил. Ну не может же настоящая шпионка так вот выкладывать первому встречному всю конспирацию… Просто, должно быть, хотела по-своему удивить, произвести впечатление. Что ей, кстати, и удалось!
Нет, на следующую встречу притащила крохотный фотоаппаратик, явный диминитив: не смогу ли я определить, испорчен он, или это она что-то не так с ним делает? Потом говорила о сложностях кодировок и уже совершенно непреодолимо трудных зачетах на шведском отделении. Я ей — о предчувствии необычной судьбы и тоже об экзаменах. Исчезла на недели. Наконец исчезла на годы. И вот вдруг звонит, чтобы встретиться. Боже! Появляется советская вобла в двубортном костюме, сияет золотыми фиксами — и сразу в койку:
— Расскажу все потом…
— Никаких "потом"! Где ты, что ты?
— В Ту-у-ле, на одном предприятии, начальником первого отдела. Командировку себе выбила. Думаешь, это легко с моей секретностью?
И тут я в ее былое шпионство поверил: начальницей секретного отдела за так просто не станешь, тем более на оружейном заводе. А в Туле — только такие. Ну, конспираторша, сколько военных тайн ты можешь выдать?
Нет, в джеймсы бонды я не годился; не получался из меня и путный технолог-механик, — о последнем стали догадываться, к сожалению, даже преподаватели. Сдавая проект по "Машинам и механизмам" Кириллову, чей бритый череп с нахлобученным лбом воплощал техническую мысль, я услышал от него укор с пришепетом:
— Какой же из вас, Бобышев, инженер получится, если вы гайки чертите с пятью гранями? Вы что, собираетесь изготовлять нестандартные гайки? Рабочие вас засмеют.
— А сколько их нужно?
— Чего — гаек? Рабочих?
— Нет, граней, конечно…
— Вот видите, вы даже вопрос правильно задать не умеете…
Уел меня на русском языке. А доцент Шапиро — на "Насосах и компрессорах". К его экзамену я готовился один, а к переэкзаменовке — вдвоем с Блохом, тот же экзамен завалившим. Пересдавали кое-как, но я получил троечку, а Блох — четверку!
Бывали и обратные варианты. К "Физической химии" меня натаскивала Галя, считавшая долгом своей жизни выручать поэтов. Совсем недавно я как поэт вырос в ее глазах, прочитав нервные и размашистые строфы из "Февраля на Таврической улице":
Каждый угол на этой уличке,
затвердившей его ненастье,
был обшарен глазами колючими…
Она дала им самую высшую оценку, на какую только была способна:
— Знаешь, это даже лучше, чем у Женьки.
Натаскивала она меня упорно, и сама на экзамен пошла раньше, чтобы успеть рассказать мне об обстановке, прежде чем я пойду отвечать. А принимала совсем новая преподавательница Нина Андреева, молодая, не без некоторой даже привлекательности дылда, и никто не знал, что она такое.
Выходит Галя — бледная, аж в зелень:
— Пара!
— Как?! Тебе — пара! Что ж тогда я получу? Минус двойку?
— Иди, иди, ты получишь четверку.
Так оно и вышло. Русские фамилии получили четверки-пятерки, еврейские — двойки-тройки. Ну что было делать? Из протеста отказаться от спасительного балла? Тогда получились бы у меня две переэкзаменовки, что означало исключение из института. Впрочем, Галя пересдала на следующий день заведующему кафедрой.
А Нина Андреева преуспела, если не в физхимии, то в политике, и в годы перестройки даже возглавила партию сталинистов…
С тяжелым чувством накопленных неудач я встал в длиннющую очередь на поезда южного направления. Очередь пересекала по диагонали кассовый зал, расположенный под башней, в бывшей Городской Думе на Невском. Я пытался развлечь себя, сосредоточившись на томике Дос Пассоса, но мысли разбегались, в голове мелькали какие-то смутные сцены.
Вот, например, — выгородка из того же зала, окна на Невский раскрыты, оттуда врываются сырой холод и шипенье троллейбусных шин по мокрому снегу. Но внутри — жарко, надышано, полно народу. Это явно эпизод из будущего: седоватый лысеющий мужчина "весь в заграничном", одолевая голосом уличный шум, читает стихи, и дата подтверждает — сегодня второе января 1989 года. Прилетев накануне "с того света" и встретив Новый год на Тавриге, я выступаю в Российском культурном фонде. "Впервые после десятилетнего отсутствия", — как объявил секретарь фонда. Да и вообще, считай, такое — впервые в жизни. В передних рядах раздраженные возгласы, в задних — большой одобряж, а в целом — сосредоточенное изумление: "Неужели это все взаправду?" Я читаю "русские терцины".
Читать дальше