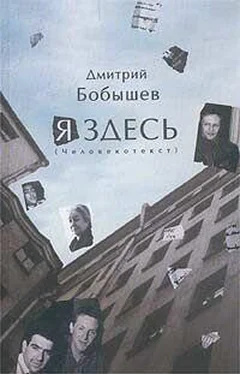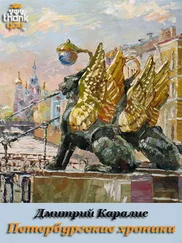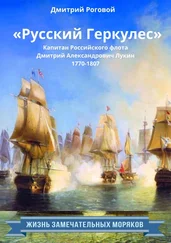Все это время мы говорили только о стихах.
Стихи Наймана, прочитанные им на этой прогулке, как и мои стихи, уже не были первыми опытами, но и самостоятельными и состоявшимися их тоже вряд ли можно было назвать. Даже тогда это было нам обоим ясно: неперебродившие гормоны, бледный синтаксис… Но скорая в восемнадцати-девятнадцатилетнем возрасте интуиция угадывала еще неслучившееся, несочиненное и ненаписанное, летя впереди наших жизней. Взаимные замечания по текстам схватывались на лету и благодарно учитывались на будущее: отсекалась банальность, отбрасывались легкие способы и эффекты. Даже скорей эстетически, чем как бы то ни было иначе, установился барьер презрения к тому, что делало стихи "советскими", проходными для печати. Вкус отвергал все это раньше, чем срабатывала этика.
Я поверил в талант моего внезапного друга (признаюсь) после второй встречи, он поверил в мой сразу. Когда иссякли собственные тексты, мы стали читать на память излюбленные. Некрасова тут же заткнули портяночной пробкой, горько и высоко зазвучал Лермонтов, но ненадолго, ибо и он оказался весьма пожеван школьной программой, а Баратынский и Тютчев, наоборот, на удивление поражали своей незахватанностью. И тут воспарил, конечно же, Блок, Блок, Блок.
А слыхал ли он нечто совсем другое? Переходя на образцы не безусловные, но все равно заветные, я прочитал куски поэзии из "Орды" и "Браги", перекочевавшие в мою память из кармана рейновского френча.
Найман был ошеломлен:
— Тихонов? А я думал, это — официоз…
— Нет, он поэт, и подлинный. Вот слушай:
Захлебываясь, плыли молча
мамонты, оседая.
И только голосом волчьим
закричала одна, седая…
Багрицкого он знал, Луговской царапнул его лишь поверхностно. Как мало мы знали тогда, но как уже верно чувствовали! К Пастернаку мы оба лишь подходили, Мандельштам был еще не прочитан. Впереди лежала неоткрытая, да и не совсем еще написанная великая поэзия, и где-то в ней мечталось и угадывалось нам угнездиться.
Наша дружба "с первого взгляда" не требовала подтверждений. Продвигаясь стремительно в том, что оба выбрали главным, мы нуждались в частом общении, и скоро он стал заходить ко мне на Таврическую, а я был тепло принят в его семье: доброжелателен был и отец Генрих Копелевич, инженер, техническая косточка, и мать Ася Давидовна, врач и сочувствующий нам гуманитарий, и младший брат Лёка, видом пошедший в отца. Толя был в мать, и она своему первенцу старалась передать кое-что сверх его блестяще восприимчивого интеллекта, быстроты мысли и обаяния: свой европейский опыт, приобретенный в студенческие годы в Париже. Вот откуда появились в его еще ученических стихах эффектные перепрыги с русского на французский!
Я, конечно, рассказал о нем Рейну как другу и ментору. Он был скептичен:
— Знаю я стихи этого отличника…
— Но он развивается!
Действительно, все больше забрасывая науки, развивался он, как и мы, скачками. Вот написал вычурно-отталкивающие, но забавные "Отродья": "У мужчины родился урод, / человеческий только рот"; витринная манекенша забеременела от магазинного воришки, в результате чего родилась уродка, подходящая подруга для первого. А уж от них, от двух уродов, пошло поколение нормальных людей, то есть, читай, все мы — отродья…
Дерзко, необычно, нелеповато… Найман давал читать это компании "под часами": знатоками были отмечены политические аналогии "Отродий" с партией и комсомолом и библейско-мифологические — с Адамом и Евой. Но скоро новизна стала у него связываться не с изобретательным вымыслом, а с личной неповторимостью, дыханием, сердцебиением, генетическим кодом, и он научился легко ее выражать в простейшем:
Живу в квартире номер семьдесят,
дом семьдесят по Карла Маркса.
Мой дом и здания соседние
похожие имеют маски.
Рифмы здесь калиброваны. Маски домов могут быть схожи, и все ж точные номера дают не только неповторимый адрес, но и полное совпадение стихов с действительностью, пусть даже в анкетном ее проявлении. Реализм? Не совсем, потому что здесь нет примата реальности над искусством. Это в конце концов лишь ранний, несколько упрощенный пример великого гетевского принципа "Поэзии и Правды", притчи о двух сосудах, взаимно наполняющих друг друга.
Нет ничего легче и продуктивней, чем наполнить стихи собой, и если не мешают препоны между языком и авторским переживанием, то индивидуальность текста получается словно самопроизвольно. Жестикуляция, мимика, тембр голоса отпечатываются чуть ли не дактилоскопически в словах. О чем бы ни писал поэт, он изображает свой портрет: так ранний Найман описал каток, вполне демократическое место скользких зимних забав молодежи. Он — о том, как "в облегающих рейтузах / садятся девушки к парням, / приобретая позы клоунш", а я вижу его в Эрмитаже на третьем этаже, рассматривающим гротески Тулуз-Лотрека. При этом он, приподняв бровь, косит в сторону, интересуясь, замечен ли он читателем именно там, в тех залах, где висят импрессионисты, то есть прочитан ли код, сообщающий о взаимной элитарности обеих сторон.
Читать дальше