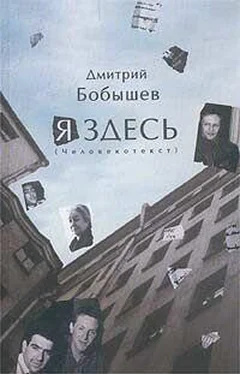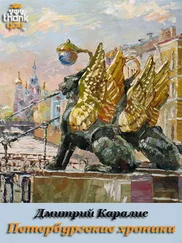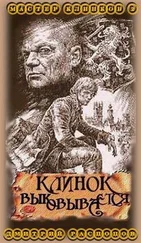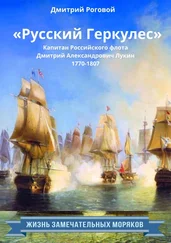Скандалист удалился. При чем тут “геологические молотки”? Их как раз было достаточно в стихах горняков. Что-что, а тема труда, из числа дозволенных начальством и поощряемых, была ими представлена, как требовалось, — и реалистически, и романтически… Более того — это была, собственно говоря, единственная тема, смыкающая их творчество с официальным, — и ничего не было ни про армию, ни про державу, ни про… Нет, про партию, впрочем, кое-что было — у Льва Куклина, но совсем уже криво-усмешно и самопародийно: мамаши на демонстрации вывозят в колясках своих малышей, а на них —
заботливо смотрит Большая Партия,
самый главный отец из отцов.
Нет, не только редкоземельные элементы, но даже самородок у них был — Глеб Горбовский: кудлат, самобытен, с сарказмом уже бывалого жителя этой планеты. Служил, во время учений двое суток прятался под избой, то ли симулируя военную хитрость, то ли нерассчитанно пустившись в бега… В его пьяном рассказе об этом упоминались какие-то танки, которые он в помрачении принял за истинно вражеские… До срока вернулся из армии без двух пальцев на левой руке; оттяпал их себе топором — то ли случайно, то ли намеренно, из протеста. Это подпадало под “самострел” и подлежало военному суду, но дело замяли, потому что несчастье произошло во время колки дров, когда его использовал офицер в своем личном хозяйстве.
Жил поэт в дремучих коммуналках сначала на Васильевском острове, затем на Пушкинской улице у Московского вокзала, и нагая неприглядность быта, выраженная с просторечивым сарказмом, стала стилем и сущностью его стихов, разумеется, не для печати. Именно это плюс хмельное буянство создавало о нем легенду наподобие есенинской. Но вот все-таки захотелось в люди и написал свою “Сю-сю-сюиту”.
Да, в чем был прав дерзкий москвич, — это общее жгучее желание напечататься, по-своему выраженное каждым из участников, и тут он оказался их выше. И — заявил о себе!
— Зачем заткнули Хромова? Верните его на сцену, дайте высказаться! — вдруг заревел Рейн, сидящий рядом со мной.
— Уходите и вы! Вам не удастся сорвать нам работу! — указал ему на дверь Семенов.
Вышел и я за ним в коридор. Хромова там уже не было.
— Ну куда пойдем? — спросил я, считая, что за мою поддержку с него причитается хотя бы пара пива.
— Знаешь, я тут… Мне надо кое к кому зайти, повидаться…
К кому тут можно зайти? Явно ведь, что все — в зале… Не хочет ли он вернуться? Возмутившись таким предположением, я двинулся к выходу. Ветер с залива накинулся, заткнул мне рот, закрутил и, подталкивая в спину тощего гэдээровского пальто, погнал меня вдоль набережной. До остановки 6-го автобуса было еще пилить и пилить…
Рейн зачастил в Москву, и скоро причина его поездок объяснилась — не литературно, но романтически. Собрав у себя друзей, он представил их своей московской гостье Гале Наринской, а ее— им, как бы на одобрение:
— Знает множество стихов. Почти всю Цветаеву — наизусть! А умыться может в ложке воды, не хуже француженки.
Яркая, стройная, черноглазая и чернокудрявая, она заканчивала Нефтяной институт и по бесспорному праву признавалась там “Мисс Нефтью”. Попросили ее почитать из Цветаевой. Она мило отнекивалась, вполне искренне. И — тактично и вовремя согласилась, чтобы не выглядеть ломакой.
Я любовь узнаю по боли
всего тела вдоль…
Я любовь узнаю по трели…
В любви — все специалисты, а тут еще — все поэты. Заспорили, как ее верней распознать. Разгорячился даже всегда ироничный Илья Авербах:
— По трели? Это же — любовь филистеров. Конечно же, — по щели! По трещине! Именно — “всего тела вдоль”…
Он в это время ухаживал за Эйбой. Любовь, а верней — желание ее заполняло пространство вокруг и внутри нас, как пятая стихия, в которой мы плавали, ныряли, летали, кувыркаясь, как на батуте, своими помыслами и стихами.
Я вдруг зацепился взглядами в “Подписных изданиях” на Литейном с Вичкой А-ич и буквально заболел ею. Она в то время уже была сговорена с Мишей Б-млинским, и отступать от этого не собиралась. Но и своими взорами явно не управляла: впивалась зрачками в зрачки, закусив губу, и вибрировала. Толя Найман меня лечил, привозя к Мише в дом рядом с Мальцевским (имени поэта Некрасова) рынком, — туда, откуда, кажется, был увезен арестованный в августе 21 года Гумилев. Миша, непризнанный художник-карикатурист, не унывал и был готов обеспечивать будущую семью шитьем брюк. Мы застали его, когда он утюжил очередную пару. Я, исполнясь цинизма, захотел сделать ему заказ, но он заломил цену. Непонятно как, эта бытовая картина да два-три стихотворения, посвященные Вичке, исцелили меня на время.
Читать дальше