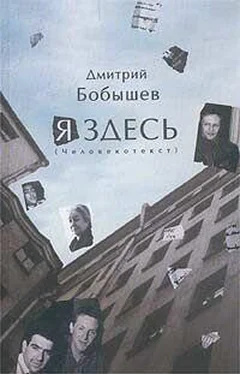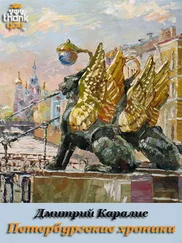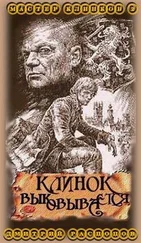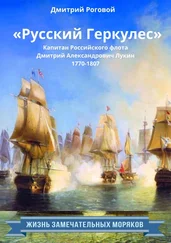А повидаться с Поэтом хотелось, как и с Прозаиком с большой буквы Юрием Олешей, тем более что они оба жили в Лаврушинском переулке на одной лестнице писательского дома.
Лифтерша, в точности такая, как на Таврической, остановила нас своей малой, но ухватистой властью:
— Вам к кому?
— К Юрию Карловичу.
— Нету.
— К Борису Леонидовичу.
— Нету. Отдыхают в Крыму.
Бредем в сторону Третьяковки. Как же так? С утра — и никого нет. Ну, конечно, лето. Но странно, что Пастернака, у которого весной был инфаркт, повезли летом на юг. Может быть, в какой-нибудь специальный санаторий? В сомнениях возвращаемся. Лифтерши нет. Едем сначала на самый верх — к Олеше.
Открывает изящная пожилая женщина в ярком халате с чертами мелкими, но точно набросанными на ее лице колонковой кистью Конашевича — Суок! Пропускает нас в кабинет.
— Студенты из Ленинграда. Как вы сами назначили.
Сам он стоит посреди пыльных рукописей и наслоений журналов — в брюках с подтяжками прямо на нижнюю рубашку: рост небольшой, взгляд колкий, брюшко косит вправо, к печени.
Вчера мы познакомились с ним в "Национале", куда я входил не без робости — место было шикарным, но обстановка в зале оказалась нисколько не натянутой. Мастер был весел и нас вычислил сразу:
— От вас приезжал этот, как его, Вольф.
— А, Сережа! Ну, как он вам понравился?
— Талантлив. Великолепно девок описывает! Как у него там? "Во время танца она профессионально, спиной, выключила свет".
— Мы хотели бы почитать вам стихи.
— Я стихов давно не пишу да и не читаю. Впрочем, приходите завтра ко мне, поговорим.
— В какое время?
— В восемь утра!
В восемь утра? Что это — чудачество или шутка подгулявшего автора "Трех толстяков"? Мы специально тянули до девяти, а потом еще эта лифтерша…
— Ничего не знаю, мне уже нужно собираться ехать в другое место.
Сами виноваты. Мы побрели по ступенькам вниз. Проходя мимо квартиры Пастернака, я остановился. Рейн уже спустился на два марша. Почему бы не попытаться? Я позвонил.
Дверь открыл человек в голубом пиджаке (наверное, в том, что его близкие называли "аргентинским"), в белой рубашке с повязанным галстуком и седой челкой на лбу. Сам! Свежее, почти молодое лицо. Яркие карие глаза излучают энергию и радушие.
— Борис Леонидович! Мы студенты из Ленинграда. Были в Карпатах, остановились проездом в Москве, чтобы повидать вас.
Рейн единым духом взлетел на два марша вверх — и вот уже стоит рядом. Представляю его и себя.
— Конечно, конечно. Пожалуйста, заходите.
Коридор, и сразу направо узкая комната: книжные полки, кушетка.
— Есть ли тут стулья? Сейчас я вам принесу.
Побежал в глубь квартиры, ступая неравномерно.
А какие у него здесь книги? Вот стоит Сельвинский, и как раз "Улялаевщина". И — с его пометками. Смотри, Женя! И я, как будто показывая ему фокус, засовываю книгу за пазуху.
— Ты что, с ума сошел? Поставь на место немедленно!
— Да я же шучу!
В узком коридоре загрохотали стулья. Внес их, расставил, рассадил нас. Чем он может нам служить?
Читать ему свои стихи было нелепо, как если бы утомлять мадонну фотографиями чужих младенцев. Все собственные находки заранее казались вялыми, вымученными по сравнению с его: "Ужасный! Капнет и вслушается…", не говоря об искрометном множестве других. Рейн полюбопытствовал, может ли он увидеть "Близнеца в тучах", первый сборник стихов Пастернака.
— К счастью, он весь пропал, до единого экземпляра, — загадочно ответил автор.
Рейн спросил, что он пишет теперь, добавив, что часть его новых стихов стала доходить, циркулируя какими-то своими путями. Да, подтвердил я, "Свеча", "Рождественская звезда", "Гамлет" передаются от друзей к друзьям, напечатанные на папиросной бумаге.
— Хорошо, — сказал он. — У меня есть какое-то время поговорить с вами. Правда, ко мне уже пришли двое журналистов, но они подождут. Дело, однако, в том, что в течение этого получаса должен прийти парикмахер, и он-то уж ждать не будет. Тогда мне придется с вами расстаться.
— А можем ли мы оставаться с вами, пока он будет вас стричь? — спросил Рейн.
— Что вы, я ведь не Анатоль Франс.
И Пастернак заговорил, поворачиваясь жарким коричневым глазом то ко мне, то к моему другу. В эти моменты на его свежем белке становился виден красный узелок лопнувшего сосуда, напоминая о недавнем инфаркте. Он говорил о своих ранних образах и книгах, как о прискорбной ошибке, о которой он теперь сожалеет. То было ложное занятие, наподобие алхимии, которому он был привержен издавна и по-пустому.
Читать дальше