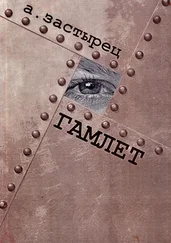Несколько лет спустя мы встретились на лестничной площадке Уральского университета и кинулись друг к другу в объятия. Разница в возрасте более не ощущалась.
Теперь нас норовило разделить другое — пространство. И дело тут не в судьбе, а в характерах. Встречи и расставания были и остаются лейтмотивом нашей дружбы. Я в Свердловске — он в Иркутске. Он в Душанбе — я опять-таки в Свердловске. Даже когда он в Свердловске и здесь его дом, семья, мама — его тут фактически все время нет — он в Москве, он в Таллинне, он в Лондоне…
Вот и сейчас, когда я сижу у себя дома и пишу эти строки, Калужский гуляет где-то в предгорьях Альп или на берегу Женевского озера этаким «Лениным в Швейцарии». И чего ему рядом со мной не сидится? А вот того, что Калужский — это самый настоящий rolling stone, или, по-русски, перекати-поле. А я… Да что я? Не обо мне, в сущности, речь!
Раньше Калужский любил появляться неожиданно. Сидишь, пишешь ему письмо в два часа ночи. Звонок в дверь. Открываешь, а это он — собственной персоной, только что прилетел, да еще и, к примеру, наголо обрит, эдак стоит в кожаном плаще — и улыбается…
Или вот еще до того был случай. Сижу я в распахнутом окне, а ночь такая летняя, излюбленная авторами лирических песен, после дождя. Кусты внизу темные, густые, каплями посверкивают. Вдруг бормотанье, шум, хохот — и прямо из кустов выскакивает Калужский с одной девчонкой, кстати, моей одноклассницей. Я ее называть не буду: она теперь уже взрослая тетя — Бог знает, что у нее на уме, как с мужем… Пусть будет инкогнито. Узнает себя — наедине с собой поплачет, посмеется, и все. Поднялись они ко мне, я им дверь отворил потихоньку, поставил «Red Rose Speedway» Маккартни и напоил их из толстой керамической кружки обыкновенной холодной водой. Но если кто-то возразит и станет меня уверять, что это была не вода, а вино, и даже коньяк — я не стану спорить. Оба они были мокрые, веселые, молодые… Мало ли что? И дружба наша с Калужским только-только начиналась.
Теперь неожиданного вообще стало меньше — о плохом и хорошем заранее сообщают на всю страну. Даже государственный переворот, кажется, никого не удивил — все были готовы. Да ну ее, политику! Сплошной расчет. А тут — любовь, молодость, музыка — в самый разгар застоя, между прочим…
Калужский — великий человек, ребята! Недаром мы с ним так понимаем друг друга. По сравнению с ним все лично известные мне рок-музыканты вместе взятые — душераздирающие зануды и дуболомы. Я знаю, они на меня не обидятся, потому что, в сущности, все они — славные парни. Но о них еще речь впереди.
Калужский первый рассказал мне о «Трубчатых колокольчиках» Майка Олдфилда. Благодаря ему, я впервые услышал «Genesis» — «Trespass» и «Nersury Crime», и «Selling England By The Pound». Мы вместе открыли Кэйт Буш и «Stily Dan» и многое другое. Он переводил мне тексты «Pink Floyd», «Jethro Tull», «The Who» и Элтона Джона. Мы дружно склонялись над рок-энциклопедиями и музыкальными ревю, вычитывая подробности из жизни Дэвида Боуи, Фрэнка Зэппы и Элис Купер.
Мы бок о бок стояли за дискотечным пультом в веселили публику — даже в тот самый день, когда у Калужского родилась дочь. Мы прослушали вдвоем не одну сотню пластинок. Рок-музыка ли не была нашей страстью, нашей мечтой и нашей надеждой, нашей юностью? И все же строчка одной из лучших песен покойного Вити Цоя «Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл» — не про нас.
Ни тогда, ни теперь мы бы на это не согласились. Надо ли объяснять, почему? Распространяться о ценности души и о возможности лучшего применения сил? Нет, ребята, это уже будет совсем в другом стиле. Пускай каждый решает эти проблемы сам по себе. Добавлю только одно: отдать душу за рок-н-ролл? А — вот ему!.. Ну же, повторите мой жест, ведь душа всего дороже.
Когда я учился уже на третьем курсе, мое имя и моя физиономия прочно встали в ряд университетских знаменитостей. Правда, мои дурацкие стихи не стяжали широкого признания (обычная прижизненная судьба поэтического дара), разве что Александр Владимирович, величайший балагур и знаток австрокоммунизма, восторженно смаковал мои дебильные строки: «Я шел и курил. У барака меня покусала собака». Да некоторые девочки серьезно до слез воспринимали все написанное мною. Зато, в паре все с тем же Вовкой изображая на самодельной сцене то Малыша и Карлсона, то Попа и его многострадального пса, убитого за кусок мяса, я достиг такого положения, когда чуть ли не каждый третий совершенно не знакомый студент здоровался со мной за руку, называя меня по имени. Были, конечно, и иные подвиги. Когда, например. Лев Абрамович увидел меня, в первый и последний раз посетившего его спецкурс, в роскошных, начищенных до зеркального блеска милицейских сапожищах, этот талантливый ученый и добрый преподаватель был настолько пленен, что и на экзамене проявил ко мне снисходительность. Иное дело — мой великий тезка, «столп и утверждение» марксистско-ленинской эстетики. Ввиду моего пренебрежения его остроумными лекциями, Аркадий Федорович, фигурально выражаясь, поймал меня за шиворот в коридоре и громовым баритональным тенором предложил убираться вон со специализации. Добрейший человек, он просто погорячился тогда, но тем и приумножил мою славу. Курсовая работа по теории отражения, написанная мной в бодром стиле за одну ночь и сданная в последний момент истекающего срока, читалась на кафедре вслух с хохотом, достойным «Двенадцатой ночи» Шекспира.
Читать дальше