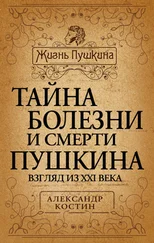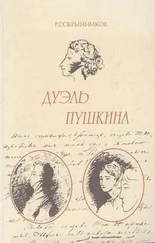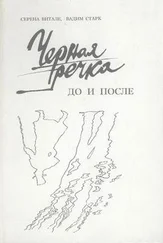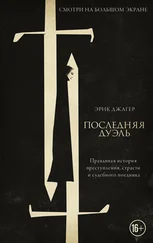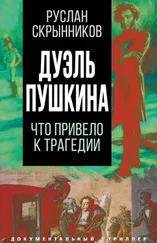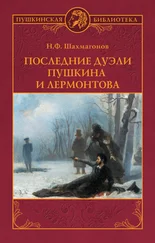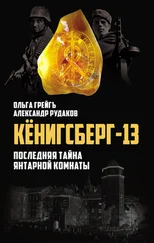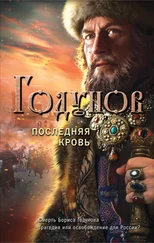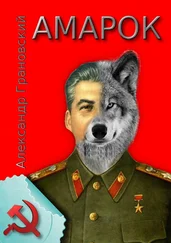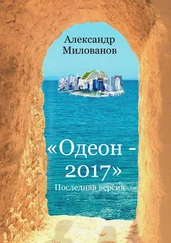Самой неожиданной и убийственно верной в посыле, а не во всей концепции, оказалась для меня недавняя версия академика Н. Я. Петракова (отнюдь не пушкиниста, а экономиста), кто желал бы подробней ознакомиться с ней я отсылаю к его книге: — она еще встречается в книжных магазинах. [2] П. Я. Петраков. Александр Пушкин. Загадка ухода. М., 2005.
.
В кратком изложении она такова. Пушкин сам послал анонимные письма, чтобы взорвать невыносимую для него ситуацию, сложившуюся к осени 1836 года. По версии Петракова, царем, Бенкендорфом и великосветской камарильей велась гнусная интрига против поэта, был составлен «заговор» против него и Пушкин решил ответить контрударом. Не буду пересказывать все явные нелепости этой выдуманной интриги вроде той, что Дантес был завербован III-им отделением и выполнял непосредственные указания графа Бенкендорфа, а вместе с ним под его указку плясал и голландский посол Геккерн. Царь был истинным любовником Натальи, а Дантеса выставили для прикрытия царских утех. Теории заговоров среди большевистских литературоведов и воспитанных ими дилетантов, поменявших царя — батюшку с Бенкендорфом на мировую закулису и жидомасонов, перестали вызывать во мне отвращение с тех пор, как стали, в силу общественных перемен, не так общественно опасны. «Заговор» же против литератора Пушкина, практически частного лица, который не был ни государственным деятелем, ни сколько — нибудь значительным властителем дум, опасным для строя, вообще представляется смешным. Если Пушкин кому — то мешал, а тем более царю с Бенкендорфом, что стоило его отпустить с Богом в деревню и повелеть иметь за ним негласный надзор. В версии Петракова этого сделать никто не хотел, потому что тогда бы с мужем уехала и супруга. Вероятно, он прав. Главный, но не единственный вопрос, по которому мы расходимся с Петраковым, была ли Натали любовницей Николая или нет. Пушкин был уверен, что нет, я, следуя за Пушкиным, с неуверенностью думаю то же самое. [3] Русские поэтессы Анна Ахматова и Марина Цветаева были уверены, что Натали изменяла мужу. Возможно, женщины лучше знают женщин, а мужчины порой обольщаются.
. Но если, по другой версии, сочинитель мешал жидомасонам, естественно, им оставалось его только убить. Ведь они кровожадны, им мало крови младенцев, подавай кровь поэта. Только за что, ведь они его никогда не читали.
На самом деле, Пушкина волновало только «мнение света» — это и был единственный заговор, который существовал. «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» (Грибоедов), «Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил» (Пушкин). Мнение света — это приговор, если хотите. Пушкин этого приговора опасался, потому что в свет всегда стремился, хотел там быть своим, мнением высшего света дорожил.
«Между тем Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую — то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственною улыбкою выслушивали его шутки, остроты», — писал его лицейский друг, декабрист И. И. Пущин про молодого Пушкина. [4] И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 58. Кстати, чтобы было ясно, насколько дуэль была делом будничным, скажем, что упомянутый Пущиным П. Д. Киселев, будучи начальником штаба армии, в 1823 году смертельно ранил на дуэли другого генерала, командира бригады Н. И. Мордвинова. Начальник Главного штаба генерал И. И. Дибич, известил Киселева, «что государь, получив официальное представление его дела, вполне оправдывает его поступок и делает только одно замечание, что гораздо бы лучше было, если бы поединок был за границей». При Николае I отношение к дуэлям ужесточилось. // Записки Н. В. Басаргина. В кн.: Декабристы. Южное общество. М., 1982. С. 23–27. Будущего декабриста Ивана Анненкова, воспетого в фильме «Звезда пленительного счастья», Александр I простил за жестокое убийство товарища (П. Я. Ланского). Оскорбленный Ланской (он защищал честь своей жены) на дуэли в марте 1820 г. поступил великодушно и выстрелил в воздух, кавалергардский корнет Анненков же целился минут пять и убил соперника наповал. Мерзавцы в кавалергардском полку были не новостью.
. «Пушкин измельчал не в разврате, а в салоне», — вторил ему уже после смерти поэта А. С. Хомяков, славянофил, сам в гостиных тараторившийся по — французски, а философские сочинения писавший на английском с безупречной немецкой логикой. [5] Цит по кн.: Т. и В. Рожновы. Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна Пушкина и ее потомки. С. 482.
. «В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастие заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере: к которой он имел, как я сказал выше, какое — то непостижимое пристрастие», — это уже мнение графа В. А. Соллогуба, принадлежавшего к самому избранному обществу по рождению. [6] Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 томах. М., 1998. 2, С. 332. Далее: ПВС‑1998.
.
Читать дальше
![Александр Александров Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина] обложка книги](/books/402150/aleksandr-aleksandrov-izvestnyj-anonim-poslednyaya-cover.webp)