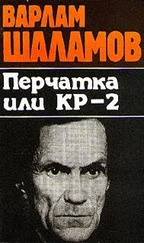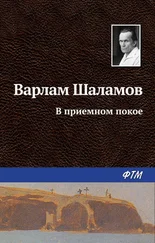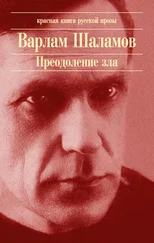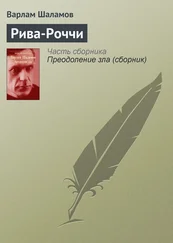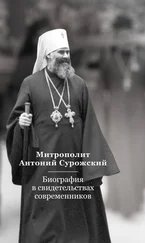Он мне дал телефоны: «Если вам надо будет, чтобы вам помогли» – телефон Лихачева, Тимофеева, Сиротинской*.
Про его любовь к Сиротинской я узнала так. Убиралась в квартире и нашла картонку, на которой было написано крупным почерком: «Варлам, для твоих соседей я твоя племянница». Я спросила, что это. «А! Это Ирина Павловна написала». И он рассказал, что это была любовь. И брак бы был по любви, но вот она не решилась, потому что у нее было трое детей и муж был не согласен на развод. Они с Шаламовым были знакомы с года 67-69-го, когда еще он жил на Хорошевской.
Из-за нее он, конечно, развелся со своей второй женой. Развод, я знаю, был очень тяжелый и доставил всем много горя. Когда он болел, я звонила его первой жене, она мне сказала: «Да пусть он сдохнет, пусть он в гробу перевернется. Я туда больше не пойду».
Нежность зека
Он писал каждый день. В его письмах были философствования об Ахматовой, о Блоке. И между тем, что нембутал кончился. Или вот, когда я уже готовила его книгу и началось творческое общение: «Я написал новые стихи, немедленно придите». Он отдавал свои новые вещи мне на правку и правил, где я указывала. Вот он пишет:
«Вашему вкусу я доверяю больше, чем себе. Простите мне это нахальство. Я отслужу». «Отслужу» я тогда не заметила. Или вот еще: «В этой поправке я увидел теплую дружественную руку, которая может вести поэта к вершинам мастерства, и поспешил утвердить ваш текст для канонизации. Не только потому, что вы мне нравитесь как женщина, но и потому, что следуя за вами художественных потерь не будет. Вы законченный мастер русского стихосложения, следовать за которым удовольствие». Или вот стишок обо мне и комплименты:
«Да, мне нравится фамилия Зайвая,
теплая, живая, боевая...
Тут я хочу вам сказать без всяких комплиментов насчет моложавости. Что вы будете возбуждать желание мужчин скорее оказаться с вами в постели не только в 40, но в 50, 60, 70, 80, всю вашу увлекательную жизнь благодаря вашим гормонам и прочему. Я думаю, что натура, как вы, казалась желанной мужчине лет с 5-6». Или это неприлично цитировать?
По телефону он не говорил. Были звонки с молчанием, и я знала, что это он. Я не понимаю, почему он не говорил по телефону. В одном письме он написал: «Людмила Владимировна, просить меня позвонить – это очень жестоко».
Иногда он звал меня «Людмила Владимировна». А когда был в хорошем настроении – «блядища». Ну зек он, в нем этот лексикон, матерщина, грубость переплеталась с поэтической нежностью. Я очень переживала, когда он говорил «Людмила Владимировна». Я съела «блядищу» – это было у него как «Людочка», как «милая». Это у него так звучало. Иногда смотрю на него, ну – зек, бандит, да как он писать стихи может?
У него были совершенно неожиданные приступы почти бешенства.
Один раз мы сидели, говорили, говорили, вдруг он вскочил и начал все срывать, все рушить. Я испугалась, забилась куда-то. Он очень быстро пришел в себя и сказал: «Если со мной еще когда-то такое произойдет, вы не обижайтесь. Вы постойте где-нибудь в коридоре. Это через 10 минут пройдет. У меня бывают такие неимоверные боли в мозгу из-за глаз, что я сам за себя не отвечаю».
У меня был роскошный комплект нового белья – я его расшила подсолнухами. Постелила – а он спал на досках. Ой, это тоже была эпопея. Ему надо было принести лист фанеры два на три. Он говорит: «Мне нужно четырехслойной фанеры листов десять или двадцать». Ну я понимала, что надо только один. А где его было взять? Я сняла заднюю стенку с гардероба – вот недавно он уже совсем развалился – и эту фанеру ему отвезла. Прихожу: белье в подсолнухах изорвано в клочья. И в больнице потом, в интернате он рвал постель в клочья.
Когда он был в хорошем расположении духа, мы сидели и разговаривали. Я очень жалею, что тогда не записывала за ним на диктофон. Есть какие-то идиоты, которые говорят, что, если бы Шаламов не сидел, ему не о чем было бы писать. Это абсолютная ерунда. Это был широчайший интеллект – он интересовался историей музыки, поэзией, живописью. Я общалась с тьмой народа в своем клубе книголюбов – и с писателями пила водку, разговаривала, ездила на дачи. Такого ума я ни у кого не встречала.
Он мне отдался весь, со всеми потрохами, со всеми тайнами. Теперь я понимаю, что он любил меня. Это была мучительная любовь. Иначе, какими бы силами я все это вынесла. Уходила я оттуда всегда в слезах. Я не могла его оставить одного. Я видела, что он страдает. Я доставала Союз писателей, чтобы ему помогали, дали вторую комнату, литературного секретаря. Наверное, я его любила. Я разрывалась между ним и Маринкой. Но Маринка могла без меня побыть два-три часа. Она была в детском саду – я ее просто позже забирала, потом я ее отдала на неделю.
Читать дальше