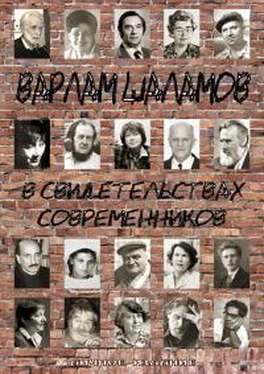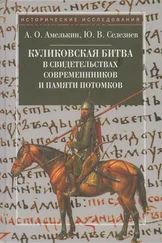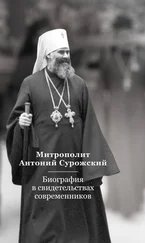О первом варианте. Первый вариант, конечно, почти всегда – лучший и уж во всяком случае всегда – самый честный. Первый вариант исправляется потому, что чувством жертвуешь ради мысли, а еще потому, что соблазняет звуковое, а еще потому, что настроенность сегодняшняя иная, чем настроенность завтрашняя или вчерашняя. Стихотворений оконченных, наверное, ни у кого не бывает.
Ты не сердишься на такое длинное письмо? Не сердись – мне очень, очень трудно. Не что-либо житейское, личное решать мне трудно. Это – другое. Завтра я уеду в Тулу, а возвращаясь из Тулы, пошлю телеграмму на Потаповский, и, м. б., ты сумеешь выбраться. Крепко целую.
В.
Письмо бросаю в Москве.
* * *
Я представляла, как в своем «Туркмене» на торфяных разработках (что-то вроде Баскервильских болот) он строчит мелким аккуратным почерком, без помарок, макая перо в «непроливайку», эти длинные письма, спеша выговориться, поделиться, бесконечно радуясь обретенному собеседнику. Быть может, эти скороговоркой сыплющиеся имена – Бальзак, Стендаль, Толстой, Мартынов – напоминают ухаживание начитанного гимназиста: «А из Гоголя вы что любите?» Но дело не в глубине и тонкости литературных оценок. В свете его судьбы эта потребность обменяться, перекликнуться драгоценными именами имела другой, человеческий смысл. Это было возвращение на «факультет ненужных вещей», в знакомый мир, о чем так хорошо сказано в его рассказе «Сентенция».
* * *
Туркмен, 24 мая 1956
Дорогая Люся.
Второе письмо за сегодняшний вечер. Я, право, уже полтора месяца только и делаю, что пишу тебе письма – отправляю и не отправляю – всякие. Первое сегодняшнее чуть-чуть не вошло в разряд неотправленных – но до каких же пор мы будем молчать?
«Лит<���ературная> М<���осква>» закончил<���а> сегодня пьесой Розова. Плохая пьеса. Пьесы, наверное, писать очень трудно – трудней, чем, скажем, повесть или роман, и всякому большому писателю хочется, наверное, написать хорошую пьесу. В этих несвободных, заданных рамках жанра попробовать свои силы, освободив себя от заботы закрепления пейзажа, интерьера. Соблазняет прямота обращения к зрителю, упрощенность воздействия, новизна задач. Страшная ответственность диалога, музыкальный ключ его.
Толстой упорно хотел быть драматургом – и не получилось театра Толстого. Горький же и сам понимал беспомощность своих пьес. Даже Салтыков и Чернышевский не удержались от подобных проб. Знал, что такое пьеса, – Чехов – впрочем, чего он не знал? Знал и Андреев – только у него было больше таланта, чем сердца и ума. Но тот, кто владел диалогом, как никто на свете, у кого речь героя – не только душевный, но и физический его портрет, у кого романы так похожи на первый взгляд на пьесы, – Достоевский – пьес не писал. И больше того, любой роман прямо просится на переделку в драму. Но все переделки были бледнее и в сотни раз хуже, чем роман. И не потому, что это «вторичность», и не потому, что за переделки брались бездарные люди – были и не бездарные. Почему? В чем тут дело? В каком-то необъяснимом совершенстве прозы, в неслучайности предложения, в необходимости каждого слова. О периодах Достоевского, о якобы небрежности, торопливости его пера писалось много – но попробуйте вынуть хоть одно слово – ткань будет зиять.
«Портрет» Шкловского – обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, по мнению нынешней критики, рассказ, повесть, драма должны прежде всего, иметь познавательное значение, а подтексты – это дело десятое. Если уж это верно, то лучше моих плохих «безвыходных» рассказов им не найти – достоверность и бытовая и психологическая имеется в избытке.
Лучшее, несравненное в сборнике – это заметки о Шекспире, несмотря на их беглость. Некрасивые воспоминания Чуковского о Блоке – см. его же воспоминания о Блоке в «Записках мечтателей» в 1921 (№ 6).
Когда-то, года два с лишним назад, я говорил Б. Л. о том особом значении, которое его стихи имели для многих людей на севере – когда поэзия, которую обвиняли в изощренной и нарочитой туманности, вдруг оказалась единственной реальной поэтической силой, выступившей прямо, да еще в таких условиях, где никто и насильно-то не мог бы, кажется, вспомнить каких-либо стихов представителей «гражданской поэзии». Мне показалось во время этого разговора, что Б. Л. отнесся с некоторым недоверием к моим словам (дескать, в лучшем случае на Шаламова они так действовали). Но это ведь совсем не так. Это – не только лично мое. Я помню ледяные камеры карцеров, выдолбленных в промороженных скалах, где люди, раздетые «до белья», согревались в объятиях друг друга, сплетаясь в клубок почище Лаокооновского клубка, около остывшей железной печки, безнадежно упрямо трогая ее острые ребра, ухе утратившие тепло, и читали «Лейтенанта Шмидта»: «Недра шахт вдоль Нерчинского тракта...» Это не я читал эти стихи. Я их слушал. Их читал Александров, какой-то московский экономист. Цветаева пренебрежительно изволила высказаться о «Л. Ш.» – это неверно, как неверны и ее замечания о «1905 годе», где море в «Морском мятеже», – м. б.» лучшее в поэзии море.
Читать дальше