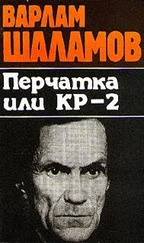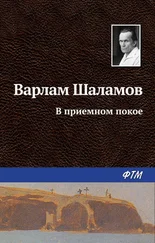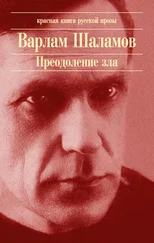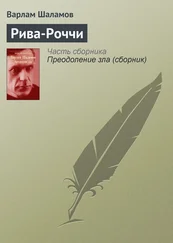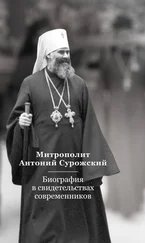Я помню больничные койки, где матрасы были набиты сучьями стланика (вместо сена, которого и лошадям-то не хватало), костлявых людей на этих костлявых матрасах, где пролежни образовывались за сутки, людей с грязной шероховатой кожей, поблескивающей, как рыбья чешуя, людей, собравших последние силы, чтобы отключиться, оторваться от всего, что их окружает, чтобы эту дальность отрыва увеличить до предела, читая строки «Высокой болезни». Не знаю, м. б., они помнили и другие стихи – они их не вспоминали. Я помню Миру Варшавскую, медицинскую сестру, которая годами, пряча от бесконечных обысков, возила с собой «Второе рождение» и которая прямо говорила, что только стихи дали ей душевные силы все пережить.
И я думал позже – много позже – вот счастье поэта, вот где реальная сила его искусства, вот измерение подлинности его, вот к каким поэтическим истокам обращается человек, который не имел недостатка в Асеевых и Маяковских. Вот что в поэзии оказалось для него самым дорогим в то время, когда и думать-то о стихах нельзя было. И что такое «изощренность» и «роскошь» и что такое черный хлеб искусства. Стихи эти пришли к людям не там, а гораздо раньше. Стихи эти были давно вложены, сохранены и к их помощи обратились в трудный час, доказывая этим их удивительную животворящую силу. Вот это-то и есть то самое чудотворство, о котором написано в «Августе». И все это происходит не потому, что это интеллигенты вспоминают – дескать, Пастернак их поэт. Хотя и это суждение, как бы оно ни было одноруко, ничего не заключает в себе малого. Для меня же ясно, что тут дело в той единственной нужности для человека, которая сказалась в его стихах. Что на подлинность выдержан особый экзамен. Что ни одно поэтическое имя современника не заслужило уважения и памяти. А ведь стихи прошлого – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Баратынского – таким образом, и для этого хранить в памяти нельзя. Необходимо, чтобы это был мир реальности, знакомых деталей, мир, достающийся нам без перевода, без аналогии (как при чтении Данте, Сервантеса, где мы должны подставить сегодняшнюю арифметику в их формулы). Не благодаря формальным достоинствам держится все, а потому, что это – подлинность единственного видения, осветившего жизнь с нужной стороны.
И еще вот что: когда начинает теряться понемногу мир – исчезают привычные интересы, убегают из памяти понятия, суживается словарь, прошлая жизнь кажется небывшей (голод, холод) – это процесс постепенный, медленный, и если человек не умирает, а выздоравливает – он также медленно возвращает себе кое-что (не все, конечно) из потерянного. В выздоровлении крепость физических сил опережает в возвращении крепость сил духовных, а у многих они (духовные силы) совсем не возвращаются. Так вот, в этом процессе таянья человека – стихи держатся дольше, чем проза – я это проверял на людях и на самом себе. Даже Гумилевские «Мореплаватели» (это «даже» для тебя – я ведь не поклонник Гумилева как поэта) крепче, оказывается, сидят в человеке, чем хотя бы «Война и мир». Понимаю это, веря в стремление человека к высокому, в то, что правда поэзии выше правды художественной прозы – и особенностями стихосложения – его мнемоническими качествами, укрепленными звучанием.
Ну, кое-как заканчиваю это письмо. «Золотая роза» Паустовского понравилась мне бы больше, если бы он не врал бессовестно о Мультатули, которого и о котором я хорошо знаю, и если бы не писал он этой раздражительной короткой фразой – эта штука вовсе не в духе русского языка, точнее, русской прозы.
Письмо сегодняшнее я так и не отправил. Ну, оно от тебя не уйдет. Привет Ирине, Дмитрию и Map. Ник.
Крепко целую.
В.
* * *
О том, что значил для Шаламова Пастернак, с не меньшей силой сказано и в его стихотворении «Поэту». Оно имеет и второе название – «Молитва». Мне же через несколько лет предстояло проверить справедливость слов о «роскоши» и «черном хлебе искусства» – на своем, маленьком, несоизмеримом тюремном опыте – и она подтвердилась. После смерти Б. Л., когда нас с мамой арестовали, мы, встретившись с ней после полугодового следствия и лубянской одиночки на суде, читали друг другу «Лейтенанта Шмидта», и мама говорила: «Господи, ну откуда он (Боря) мог все это знать, ведь он никогда не сидел, как же можно было это увидеть – «Это небо, пахнущее как-то так, как будто день, как масло, спахтан! Эти лица – а в толпе – свои!» И дело не в знакомых деталях – тут Шаламов не совсем прав. Что – по деталям – может быть дальше от вонючей трехметровой камеры с парашей и намордником, чем красивая жизнь господина Свана? Но я никогда не забуду своего упоения Прустом именно там, на Лубянке, Прустом, отложенным в свое время в уюте нормальной жизни, как скучный, изысканный буржуа, и тут вдруг открывшимся в своей пронзительной человечности, и это был тот самый «черный хлеб искусства», как оказалось.
Читать дальше