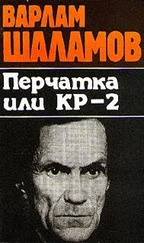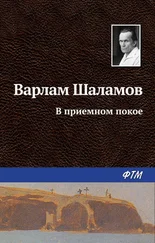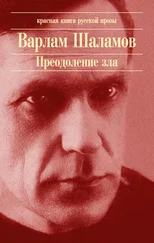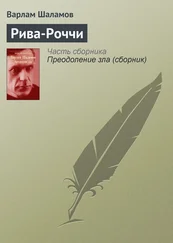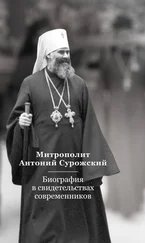Боязнь доставить огорчение именно тем людям, которым отведено значительное место в моей душе (и Вы – из них), удерживала меня до последнего времени. Справедливо ли было такое суждение или оно было ложно и излишне щепетильно – об этом было трудно судить, не видя Вас двадцать лет. Ну, подробно при личной встрече. С легким и просветленным сердцем прошу прощения за оговорку в конце первого письма – я считал ее морально обязательной.
Письма к нам в «Туркмен» (это – торфяные разработки) идут 3-4 дня. Ваше письмо от 26 марта получил я только сегодня. Этот срок следует Вам иметь в виду на будущее.
Я приеду в Москву в субботу 7 апреля и буду в Потаповском в 9 часов вечера. Если, паче чаяния, я задержусь и попаду в Москву позднее, чем намечено сейчас, то буду у Вас в 10 часов утра в воскресенье, 8 апреля.
Привет Вашей дочери.
Взволнован я вовсе необычно, прошу простить за путаное письмо.
Сердечно Вас приветствую.
Ваш В. Шаламов
Туркмен, 31 марта 1956 г.
Дорогая Люся.
Ждать до 7-го апреля слишком долго, я приехал бы сегодня, но ведь Вы не получите моего письма заранее. Поэтому все остается так, как я писал: 7-го в 9 часов вечера или утром в воскресенье.
Я легко разгадаю Вашу загадку о нашем общем друге (вариантов всего два).
Желаю Вам счастья, бодрости, удач. Сберегите для меня какую-то часть Вашего времени и на будущее. Мне о многом хотелось Вам рассказать и еще больше – услышать. Я написал это короткое письмо потому, как Вы понимаете, что мне хочется говорить с Вами раньше, чем пройдет эта последняя неделя.
Ваш В. Шаламов
<���Без даты>
<���ТЕЛЕГРАММА> БУДУ ВЕЧЕРОМ ВОСЬМОГО — ВАРЛАМ —
* * *
Шестого, седьмого, нет, сегодня, наконец, восьмого... Каким молодым нетерпением веет от этих пожелтевших телеграмм, от выгоревших фиолетовых чернил, от школьных листков в линеечку! Увлечение двадцатилетней давности, образ красавицы, нежной и отзывчивой, вдруг обретает плоть. Неужели не напрасно в аду Колымы береглись двадцать адовых лет не только стихи – слово – но и воспоминания, тени когда-то любимых и прекрасных? Не об этом ли: «На склоне гор, на склоне лет я выбил в камне твой портрет...» И склон лет – уже не склон, а, наоборот, – подъем, который надо взять. Всего каких-то два варианта? Им найдется что противопоставить – мощнейший аккумулятор неизрасходованной за двадцать лет нежности, потребности в любви и понимании. Право же, заряд смертельный – годы, возраст (да и она не молода!) – ничтожные подробности рядом с возможностью счастья.
Варламу Тихоновичу было в то время 49 лет.
Как поразительно молодеют фотографии наших семейных альбомов по мере нашего собственного старения! Вот маленькая, – кажется, с первого «вольного» паспорта – фотография Шаламова – я с изумлением смотрю на нее сейчас: куда делись глубокие морщины, скорбно запавшие щеки, эти борозды на лбу, видевшиеся моим шестнадцати годам? Конечно же, их проводило воображение, подавленное Колымой, забоями, шоковой терапией, множило на двадцать полярных лет и получало раздавленного старика, на которого и взглянуть-то страшно.
И который ожидается восьмого, в один из субботних вечеров...
В этом году кончалась моя школьная жизнь, и предчувствие свободы окрашивало эти апрельские вечера особой, никогда уже не повторившейся легкостью и ожиданием чудес. Эти тонкие, тающие, тянущиеся апрельские сумерки, как хороши были они тогда в Москве! В притихшей вечерней квартире необычно пусто, мы вдвоем с мамой, мы ждем, она волнуется. Начинает накрапывать мелкий дождь, потом припускает сильнее, темнеет, зажигаем лампу. Но не дождю остановить нетерпеливого гостя.
В мокром брезентовом дождевике с грубым тяжелым рюкзаком за спиной, который он не знает куда пристроить в маленькой передней, гость с первого взгляда, шага, слова, рукопожатия опрокидывает представление, сложившееся в полудетской голове. Мощен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джеклондоновский золотоискатель – клетчатая ковбойка и короткая стрижка дополняют портрет. Огромная заскорузлая рука сдавливает наши немощные пальчики с ненужной несоразмерной силой. Несоразмерен квартире и голос – резкий, напряженный (он уже тогда плохо слышал, начиналась глухота, перешедшая потом в болезнь Меньера), рубленая отрывистая речь, железобетонная рука-метроном отбивает в воздухе ее ритм, и куски фраз падают на наши головы, как куски породы, отваливаемой кайлом. Он читает стихи. «Я двадцать лет дробил каменья не гордым ямбом, а кайлом, я жил позором преступленья и вечной правды торжеством...» Об этом, как раз об этом сказано в романе «Доктор Живаго»: «...когда Блок писал – мы, дети страшных лет России, – это был образ, метафора, а теперь и дети – дети, и страхи – страшны...» Что знал лермонтовский Демон о позоре преступленья? Блок – о кайле, дробящем камни? И вот передо мной поэт, который знает все о том, о чем не нужно знать людям, и который выжил все-таки благодаря им, незнавшим...
Читать дальше