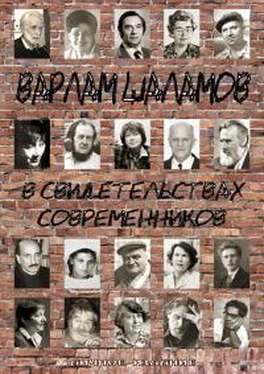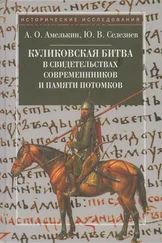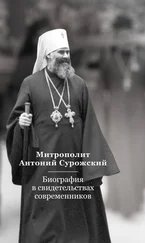Там, где вся Россия в сотнях каторжных песен творила величайший многоголосый реквием самой себе, небывалую в мировой истории сагу своих страданий и гибели, там Варлам Шаламов в своей угловатой, судорожно рыдающей прозе нашел новый жанр повествования (нет завязок и кульминаций среди тысячеликой смерти), чтобы сохранить лики и души погибших, их место казни и последние шаги, а в стихах вел нескончаемый спор с Богом о смысле и праве такого мира на земле.[...]
Прозы – огненного свидетельства, сравнимого по трагическому пафосу лишь с «Житием» протопопа Аввакума –
…Тетрадь тряслась от плача
В любых натруженных руках, –
печатать не хотел никто («какие-то очерки…» – считалось в либерально-литературных кругах), стихи печатались в отрывках, с разрушенными циклами, чтобы раздробить, придушить, заглушить насколько возможно, рвавшийся из них к Богу и людям предсмертный хрип русской души и русской культуры. И даже в еще шедший в эти годы
Наш спор о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Вязать и решать…
его – главного свидетеля – пускать не хотели и боялись. В литературных кухнях-салонах к Шаламову относились с заметной и насмешливой снисходительностью (а потом и злорадством: «мы еще тогда это говорили»), а он жаждал какого-то действия, или, вернее, действенной жизни литератора-профессионала: переводил, писал об уголовном мире, создавал наставления для начинающих поэтов, разбирал раннее творчество Репина, – и все это никому не было нужно. Кое-что, правда, издавалось, но проходило, как правило, незамеченным. Известность Шаламова была такова, что когда году в 70-м появилась наконец первая книжка его прозы (разумеется, по-немецки, а не по-русски), и фамилия и имя автора были перевраны.[...]
Не только стихи и прозу его понимать было – страшно, но и с ним самим было – трудно. Шаламов всегда оставался строг, не прощал даже близким: одному – вынужденных компромиссов, другому – смеси крови с розовой водицей, третьему – заемного словаря. Но каким же беспощадным судом судил он в одиночестве (никого рядом не было) самого себя, если смог написать:
Всего я касался лишь краем
И стал чересчур обтекаем.
Это о себе, почти голодающем, но полтора десятилетия не вступавшем в Союз писателей; о себе, не написавшем ни строки не только «датской» (к датам), но и просто проходной; о себе – отказавшемся от помощи полуприличного литературного бонзы, приславшего к Шаламову (по генетически-непроизвольному хамству) за прозой и стихами своего секретаря. И если он, изнемогая в одиночестве, и делал хоть что-то, чтобы уцелеть, то лишь потому, что видел себя все еще полным сосудом не переданного людям бесценного опыта.
Внезапная, но весьма закономерная смерть Шаламова (вскоре после опубликования его последних стихов в «Вестнике студенческого русского Христианского движения») – это не только огромная, поистине невосполнимая потеря для нас, для русской и мировой культуры, для нравственного бытия всего человечества. В ней чудится и зловещее пророчество.
Жизнь Шаламова, как мы говорили, повторяла судьбу всей России. В последние месяцы ему уже было уготовано место в психушке, куда его перевели, по нашему обыкновению, тайно и, очевидно, против его воли, – его, поэта, создавшего незадолго до этого цикл замечательных стихов.
Шаламов не уставал предупреждать:
Она еще жива, Расея,
Опаснейшая из Горгон.
Заржавленным щитом Персея
Не этот облик отражён…
Но дом Горгон находит Муза
И – безоружная – войдет,
И поглядит в глаза Медузе,
Окаменеет – и умрёт.
Иногда кажется, что, если бы Достоевский не умер, Александр Второй не был бы убит и эпоха русского идеализма, веры в Народ-Богоносец и во всемирное провиденциальное значение России не закончилась бы так трагично. Так и судьба Шаламова, таинственная, загадочная, какой только и может быть истинная судьба, судьба, поставившая перед человечеством вопрос о смысле его бытия среди немой, но чистой природы, эта судьба оборвалась, когда, кажется, и для других жизней человеческих места уже не остается. Впрочем, сам Шаламов не был настроен столь безнадежно: себе и своим читателям он предрек жизнь славную и бесконечную. [...]
19-20 января 1982 года»
«««««««««« »»»»»»»»»»
Юрий Давыдов
Судьба Бруно Лопатина-Барта
«Соседом Бруно Германовича был молодой Амусин, универсант. Он не горячился юридически, а тихо осознавал, что соцзаконность реальна так же, как и социализм научный. Для Бруно Германовича он делал все, что мог. Прикладывал к лицу мокренькое полотенце, тихонько-осторожно поворачивал на койке, подбивал подушку и самокруточку сворачивал, и молча сострадал. И понял все, когда Лопатину сказали: соберись с вещами.
Читать дальше