Самое трудное было сказать Лине, что я задумал. С первых же дней нашего брака ее сокровенной мечтой было видеть меня в верхнем эшелоне власти в Советском Союзе. Если я предложу ей начать жизнь сначала в стране, которую она не понимает и до которой ей нет дела, она придет в ужас. Но ради нашей общей безопасности я не мог обсуждать с ней свои планы, прежде чем получу одобрение американцев. Она может случайно выдать нас в разговоре. К тому же она может не согласиться со мной и попытаться помешать мне. Она женщина решительная и вполне способна пойти к Громыко или к резиденту КГБ и сказать ему, что я плохо себя чувствую или слишком устал и что хорошо бы нам ненадолго отправиться в Москву. Даже если нас не отошлют домой, это привлечет ко мне их внимание, что было совсем ни к чему.
Но если я смогу убедить ее, что она будет в безопасности и комфорте, у меня были бы шансы уговорить ее присоединиться ко мне. А если Лина будет со мной, я смогу получить и Анну, самого дорогого для меня человечка. Ей скоро придется возвращаться в Москву, чтобы учиться дальше, — в советской школе в Нью-Йорке было всего восемь классов, и исключений не делалось ни для кого, даже для детей высших чиновников.
С Геннадием тоже проблема. Он в Москве, уже взрослый человек. К тому же женат — еще одно осложнение. Я мог бы устроить ему поездку ненадолго в Нью-Йорк. Он уже однажды провел здесь лето, в качестве студента-интерна при ООН. Но я понимал, что у меня нет морального права навязывать ему какие бы то ни было решения, и, если он не захочет уехать из Москвы, я рискую никогда больше не увидеть своего сына.
Но Лина и Анна сейчас в Нью-Йорке, и я должен сделать все, чтобы они остались со мной. Я и помыслить не мог о том, что потеряю их. Лучше еще немного подождать, еще отложить все планы. По моим расчетам, у меня оставалось еще, как минимум, несколько недель перед окончательным разрывом — масса времени.
Атмосфера в Килленворте, как назывался глен-ковский особняк до того, как его купила советская миссия, располагала к размышлениям. В те дни мне просто необходимы были покой и тишина.
На следующее утро после свидания с Джонсоном я был необычайно молчалив. Лину раздражало мое молчание. Я объяснил, что думаю об очень сложных документах, которые надо подписать на следующей неделе, и, вытащив из портфеля кипу бумаг, выложил их на стол. Но мои мысли были далеко от ООН.
Я знал, что уже стал "дефектором”, перебежчиком. Это слово, столь обычное на Западе, в русском языке не существует. И это не случайно: в современном русском языке есть только два слова для обозначения людей, покинувших Советский Союз — "предатель” и "эмигрант”, и в глазах советских властей это синонимы. Оба применяются для обозначения тех, кто обманул свою родину, советский народ, все дорогое и любимое, а мотивы, по которым они оставили свою страну, никакой роли не играют. Соответственно и у меня были трудности с терминологией. Я чувствовал, что мне нужно порвать с советской системой, с правящим режимом, но я не хотел быть перебежчиком. За этим выражением возникал образ человека, у которого нет отечества. Я же всегда буду любить свою страну и свой народ, частицей которого я себя ощущаю, и я никогда не поверю, что предал их. Я хочу перерезать свои связи с режимом и системой, но не с моими соотечественниками. Как бы довести эти тонкости до Джонсона? Надо будет сделать на это особый упор в следующем разговоре с ним.
Да и диссидентом я не был. Вот еще одно слово, которому трудно найти соответствие в русском языке. Конечно, "дис-сент” в его традиционном значении входит в русский язык, но выражение "диссидент” традиционно имело лишь религиозный, а не политический смысл. Недавно оно стало применяться по отношению к инакомыслящим — довольно туманное определение для таких людей, как Сахаров, Солженицын или Буковский. Но я никогда не выступал против моего правительства, как это делали диссиденты. Наоборот, я много лет служил ему верой и правдой.
Тем не менее в глазах других я буду перебежчиком, и я вновь и вновь думал о своей будущей судьбе. Я размышлял также и о судьбах других перебежчиков, особенно тех, кто бежал из СССР. Конечно, я столкнусь с теми же трудностями, что и они.
Я знал, что многие из них были несчастны. У одних произошли семейные трагедии или еще какие-то несчастья, после которых они начали странно себя вести. Других поджидали материальные трудности, им не удалось заниматься в новой жизни своим прежним делом. Хуже всего пришлось, вероятно, тем, кому так и не поверили, например офицеру КГБ Юрию Носенко или Григорию Беседовскому, бывшему поверенному советского посольства в Париже, который перебежал задолго до второй мировой войны. Я до сих пор не могу понять, почему судьба политических перебежчиков настолько труднее, чем судьба художников и писателей, объяснения которых, почему они порвали со своей страной, всегда принимали на веру. Если ограничение творческой свободы считается достаточным основанием для разрыва с системой, то почему же не верят тем, кто лишен права на честную работу ради своего правительства?
Читать дальше
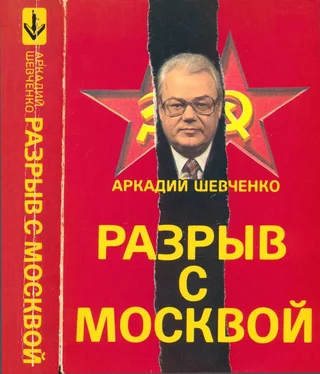
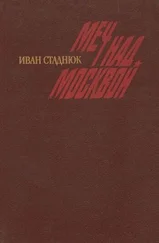






![Дмитрий Владимиров - Красная книга начал. Разрыв [litres]](/books/413279/dmitrij-vladimirov-krasnaya-kniga-nachal-razryv-li-thumb.webp)



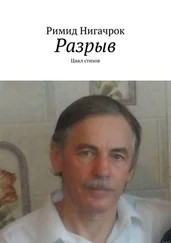
самое интересное это механизм сбора и передачи информации....а этого нет.
а все эти протоколы. совещания. коммюнике....книгу можно сократить до 70 страниц...