На обратном пути к Лонг-Айленду я и думать забыл о том, что меня может преследовать КГБ. Не думал я и о сути нашей беседы. Больше всего меня заботило, какое впечатление я произвел на Джонсона.
Я ругал себя за неуклюжее выражение своих мыслей и чувств. Я оказался не в состоянии точно выразить те наслоения размышлений, чувств и ощущений, которые так долго копились в моей душе. Нет, я явно не Эйнштейн, который мог в одну фразу уложить сложный феномен. Но меня несколько успокаивала мысль, что мы снова встретимся и у меня будет время объяснить ему мои мотивы.
По крайней мере, Джонсон должен понять, что мое решение не имеет никакого отношения к деньгам. Американцы знают о том, что советская элита ведет особый образ жизни, и им, наверное, известно, что я богатый человек и в США, скорее всего, никогда не буду так же богат, как в СССР. Кроме того, я ведь не пытался вступить с ними в сделку, продавая свои знания за деньги.
Затем я начал размышлять над зловещим предложением Джонсона стать шпионом. Сначала эта идея как-то не укладывалась у меня в голове. Уж слишком фантастической она мне казалась. Как и большинство людей, я считал, что шпионаж — это грязная игра, а шпион — малопочтенная профессия. Даже на тех, кто выступил против своего правительства по политическим причинам, часто смотрят скептически. Их заявления представляются неадекватными для объяснения мотивов, которые оказались столь сильны, что оторвали человека от его семьи, страны, его места во вселенной.
А что можно сказать, когда твой соотечественник оказывается шпионом? Единственное обоснование шпионажа — это моральная ценность того дела, ради которого он предпринимается. Но доказать — даже самому себе, — что твое дело достойно этого, — нелегко. Я часто размышлял о том, что доказать неаморальность шпионажа — одна из самых трудных задач.
Чувствуя отвращение к миру шпионажа и обмана, я и думать об этом не хотел. Слишком хорошо понимал я все опасности этого предприятия. Я живо помнил публичный процесс 1963 года над полковником Олегом Пеньковским — после приговора его тут же расстреляли. Шпионов, почти всех без исключения, раньше или позже разоблачали, даже самых лучших, таких, как полковник Рудольф Абель, которого американцы выследили в 50-е годы. Похождения Джеймса Бонда меня никогда не привлекали. И подготовки на сей предмет у меня тоже нет.
Я уже жалел, что сразу же не отверг предложения Джонсона. Зачем я дал ему основания думать, что меня не отвращает эта идея? Мне надо было тут же отказаться, а не говорить, что я подумаю.
Как и многие славяне, я в глубине души фаталист и глубоко суеверный человек. Я поражался, почему в критические минуты самые важные вещи всегда получаются как-то не так. Разрыв с моим правительством был для меня выходом из безнадежности и разочарования. Но я имел в виду открытый разрыв с советской системой, то есть честный поступок. Мне же предлагалась тайная жизнь внутри системы. Разве это не другая форма обмана, от которого я как раз и хотел отказаться? Могу ли я стать шпионом? Смогу ли я продолжать заниматься работой, которую уже много лет ненавижу, и вдобавок взять на себя еще более нежеланное занятие и обречь себя на еще большее одиночество во враждебном лагере? Я был в смятении, и никто не мог помочь мне.
В таком состоянии депрессии, к которому примешивалась и крайняя усталость, я уже за полночь добрался до Глен-Коува. Как я и надеялся, Лина ничего не заподозрила: я часто задерживался допоздна. Она еще и пожалела меня, когда я сказал, что слишком устал и не хочу есть, добраться бы до постели.
И все же я не мог заснуть. В голове кружились вопросы: правильно ли я поступил? Может, я поторопился? Нет. Я должен был покончить со своей двойной внутренней жизнью. Я вновь пересматривал все "за” и "против”, вновь и вновь перебирал свои доводы, свои мотивы, изучал структуру своей жизни.
Меня раздирали противоречивые чувства. Я беспокоился за семью. Мысль о том, что я никогда не увижу свою родину, наводила ужас. Я понимал, как трудно мне будет приспособиться к новой жизни, к новой культуре. Но несмотря на все эти тревоги, я смотрел в будущее с надеждой. Я достаточно повидал, чтобы различать светлые и темные стороны американского общества, и для меня светлая сторона была преобладающей. Я достаточно долго выжидал. Если бы я был один и мог бы решать свою судьбу, ни о ком не думая, я давно бы порвал с советской системой. Но я был не один. Мне приходилось принимать в расчет семью: жену (мы поженились, когда мне был 21 год), сына Геннадия и дочь Анну.
Читать дальше
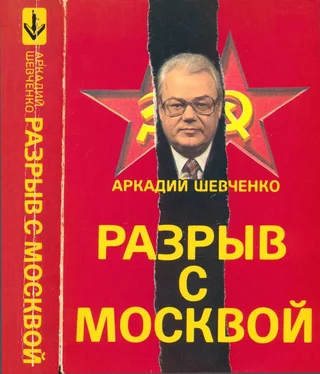
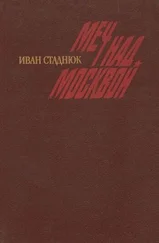






![Дмитрий Владимиров - Красная книга начал. Разрыв [litres]](/books/413279/dmitrij-vladimirov-krasnaya-kniga-nachal-razryv-li-thumb.webp)



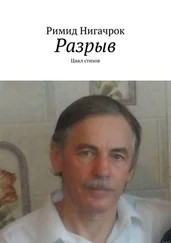
самое интересное это механизм сбора и передачи информации....а этого нет.
а все эти протоколы. совещания. коммюнике....книгу можно сократить до 70 страниц...