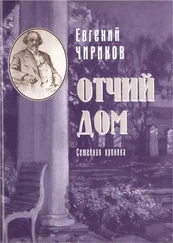Но возвращаюсь к своим собственным делам.
Получив не только одну, а целых две бумаги о реабилитации — одну по высылке из Ленинграда, а другую по лагерям, — и обе «за отсутствием состава преступления», я, естественно, оказалась в смятении чувств: следует ли мне предпринимать переселение в город, куда меня теперь, в сущности, ничто не влечет?! Я боялась наплыва тягостных воспоминаний, боялась ломки своей убогой, но до известной степени налаженной жизни, и не могла решиться на связанные с переездом трудности.
А трудностей этих было немало! Надо было в течение года после реабилитации приехать в Ленинград, прописаться у кого-нибудь из знакомых, собрать все сведения о занимаемой до высылки квартире, стать на учет для получения жилплощади и примерно два года ждать этого получения, ежемесячно являясь на регистрацию. Все это я узнала от Вареньки Ланской-Тьебо, с которой рассталась в Саратовской тюрьме и которая оттуда попала в лагеря при станции Сухобезводная на реке Уфе. Пробыв там десять лет, она соединилась с дочерью Надей и внучкой Наташей (брат и муж погибли) и жила с ними в Челябинске. Получив реабилитацию, Варенька, желая, ради своих «девочек», поскорее вернуться в Ленинград, предприняла все вышеупомянутые шаги, но, не имея материальной возможности жить в Ленинграде до подхода очереди на площадь, уехала в Бологое, поступила там на работу и ежемесячно ездила на регистрацию.
Такая перспектива меня пугала, и я уже совсем было решила навеки оставаться в Полянах, когда услышала по радио, что Хрущев и Булганин, празднуя (с некоторым опозданием) 250-летие основания города на Неве, горячо прославляют доблесть его жителей. Основываясь на их речах, я сочла своевременным напомнить, что и мне, невинно пострадавшей ленинградке, следовало бы предоставить без промедления жилплощадь. Вряд ли мое письмо дошло до Хрущева, но оно было переслано в Ленинградское жилищное управление, откуда я получила ответ, что «в настоящее время жилплощадь мне предоставлена быть не может за неимением таковой». Это было как раз то, что мне было нужно. Я положила этот документ в ящик письменного стола, чтобы сказать в случае надобности: «Сроков я не пропустила, заявку на площадь подала, но была так деликатна, что предоставила вам время построиться!»
Такая предусмотрительность объясняется тем, что с тех пор, как я осознала потенциальную возможность возвращения в Ленинград, мой образ мышления стал неустойчивым. Слушая по радио модную в то время ленинградскую песенку: «Мокнут прохожие, мокнет милиция» –
Мокнут прохожие, мокнет милиция,
Дождь на Фонтанке и дождь на Неве .
Вижу я милые мокрые лица —
Голубоглазые в большинстве …
— я ловила себя на мысли: «А почему бы мне, в сущности, к этим лицам не присоединиться?!»
Пораздумав еще три года, я все же в 1967 году переехала в Ленинград, и начался тот сравнительно благополучный, «мелкобуржуазный» период моей жизни, о котором я, перефразируя слова оптимиста Панглоса из «Кандида» Вольтера, говорю: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров».
Тому, как это все произошло, будет посвящена следующая и последняя глава.
Жизненный круг замыкается
И вот я вновь на тех самых берегах Невы, где я хотя и не блистала, но родилась! Моему переселению предшествовало много хлопот и много сомнений. Прожив в Вятских Полянах двадцать четыре года, я привыкла к этому месту, привязалась к некоторым людям и страшилась крутого поворота своей судьбы. И все же я отважилась подать документы о реабилитации в Ленинградский жилотдел для предоставления мне комнаты.
Это произошло в 1965 году. Весь дальнейший ход событий я отдала в руки судьбы, хлопоты о получении жилища — в руки моих друзей, а сама поплыла по течению. Неторопливое течение это, порою задерживаемое бюрократическими преградами, а порою оживляемое стараниями моих друзей, за два года все же принесло меня к берегам родного города, и с весны 1967 года я стала обладательницей небольшой комнатки на бывшей Гуляр-ной улице в тихом районе Петроградской стороны.
Как растение, пересаженное на новую почву, я сначала должна была «переболеть». Научившись до некоторой степени преодолевать смятение чувств при наплыве воспоминаний, я и по сие время не могу, проезжая по Дворцовому мосту, не думать об отце, стоявшем в 1918 году под штормовым ветром на молу Петропавловской крепости в ожидании смертной баржи, которая его каким-то чудом миновала; или у Ростральных колонн не вспоминать (что уже менее трагично!), как в 1930 году с риском возможных неприятностей выносила из здания Археографической комиссии свезенные туда и не оплаченные Академией отцовские книги, и среди них знакомый с детства «Petit Larousse», который, будучи переслан в Туруханск, развлекал отца в продолжение четырех зим на Енисее, а теперь, вернувшись на берега Невы, лежит на моем столе — как реликвия прошлого.
Читать дальше