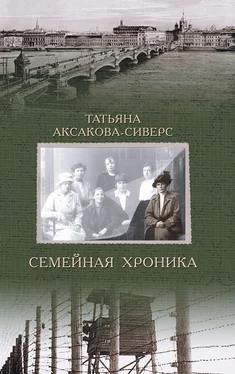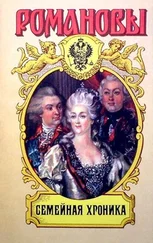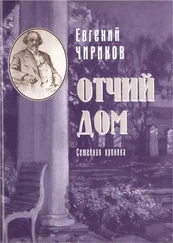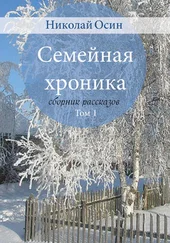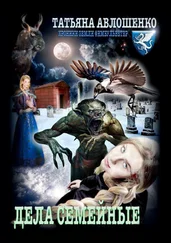Двоюродный брат Лермонтова, убежденный холостяк, Петр Григорьевич Трубецкой, говоривший «я — величина неженимая», к огорчению и удивлению всех кировчан, был «похищен» приехавшей туда навестить свою высланную родственницу Тоню Комаровскую Ксенией Петровной Истоминой: он не только на ней женился, но и усыновил ее двух взрослых сыновей, дав им свою фамилию. (Последнее не понравилось его родственникам, как здешним, так и заграничным, которые стали называть этих молодых людей «лже-Трубецкими».) Петр Григорьевич и его жена поселились в местечке Рыбное под Рязанью, куда был переведен Всесоюзный институт пчеловодства, при котором работала Ксения Петровна, доктор биологических наук. Я их там два раза навещала и видела, что «убежденный холостяк» вполне доволен своей жизнью. Но и это оказалось кратковременным — сравнительно молодой, веселый и как будто бы здоровый Петруша Трубецкой неожиданно для всех, проболев два-три месяца, скончался от рака мочевого пузыря.
Заметив, что мои записки превращаются в сплошные некрологи, хочу вспомнить «для разрядки» один забавный эпизод, относящийся к последним годам моего пребывания в Вятских Полянах.
Среди моих учениц по Школе рабочей молодежи была высокая, стройная девица с энергичным профилем и прекрасными, вьющимися белокурыми волосами, Раиса Подрезова. Несмотря на то, что она завершила свое педагогическое образование в Крыму и затем была направлена на работу в Бессарабию, она меня не забывала и между нами велась переписка. Лет через пять Раиса Ивановна вернулась в Поляны, где жили ее родители, и стала одной из выдающихся учительниц города.
Вернувшись из какой-то командировки (дело было в годы первых полетов в космос), она с волнением сообщила мне слух о том, что еще ранее сын известного конструктора Ильюшина — Владимир Сергеевич — разбился, совершая какой-то пробный полет, остался жив, но лежит в гипсе, тогда как о его подвиге никто не знает, так как это дело «засекречено». Раиса Ивановна решила исправить эту несправедливость, и пионерский отряд ее школы был назван именем Владимира Ильюшина.
Подходило 1 мая, и, узнав, что я собираюсь в Москву, Раиса вручила мне 5 рублей, прося купить букет и отвезти его от имени пионеров их шефу. (Адрес дома и номер квартиры на Ленинградском шоссе прилагался.) Я приняла это поручение, но достать букет накануне праздника оказалось трудно. То, что мне удалось купить на рынке, было полузавядшим, и вдобавок, когда я ехала на автобусе, букет оказался настолько стиснутым, что превратился в связку прутьев.
Найдя указанную мне квартиру, я с чувством неловкости робко позвонила. Мне открыла приятная пожилая дама, провела меня в столовую и сказала, что ее сын после двухлетнего лежания в гипсе теперь стал на ноги и сейчас ко мне выйдет. Действительно, минут через десять появился, опираясь на палку, очень милый молодой человек лет тридцати. Протягивая ему то, что когда-то было букетом, я сказала: «Мне очень стыдно вручать вам этот веник! Я плохо справилась с поручением, данным мне пионерами отряда, носящего ваше имя в городе Вятские Поляны, и прошу меня извинить». На это Ильюшин с жаром воскликнул: «Какое значение имеет вид букета, когда это эмблема!»
Тут же я была приглашена к чайному столу, Владимир Сергеевич демонстрировал, как он после двух лет лечения стал хорошо ходить, упирая на то, что попал в автомобильную катастрофу, я смеялась над тем, что мне пришлось выполнять несвойственную мне роль представителя пионеров, и вдруг мой взор упал на висящую на стене картину маслом, изображающую синее море и две хорошо знакомые мне скалы. Я спросила Владимира Сергеевича: «А почему у вас висит изображение острова Капри?» Тут последовало всеобщее удивление — как я могла сразу узнать это место? Мне пришлось рассказать о своем посещении Италии в юные годы и, главным образом, о своем переводе «Сан-Микеле», после чего Владимир Сергеевич сообщил мне следующее. «За несколько месяцев до моей катастрофы я ездил в Италию и посетил Капри. Будучи потом два года прикованным к постели, я пристрастился к живописи и воссоздал то, что меня особенно поразило во время путешествия. Так возникла моя картина „Капризианская бухта“ — изображение того места, которое вы так быстро узнали».
Моя дружеская переписка с Ильюшиным продолжалась еще некоторое время — он прислал мне журнал со своими «статьями летчика-испытателя», а когда вышел мой перевод «Сан-Микеле», я ему отправила книгу с соответствующей надписью.
Читать дальше