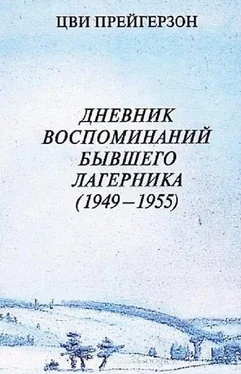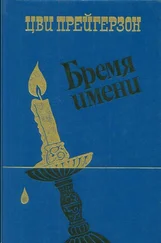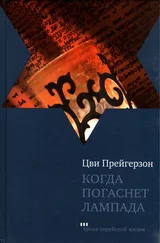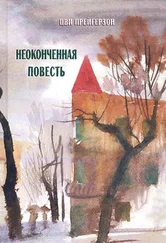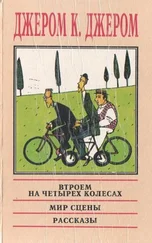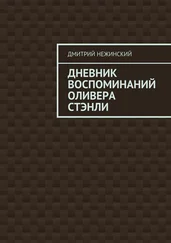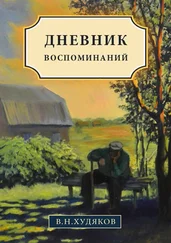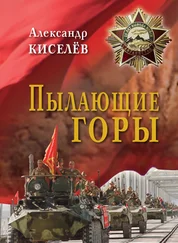В какой-то мере евреи-лагерники были окружены ненавистью со стороны так называемых «социально близких» — уголовных преступников, бандитов, расхитителей государственной собственности и рецидивистов, — сознательно науськиваемых против политических, содержавшихся в лагере. В свое время Николай Ежов, нарком внутренних дел, провозгласил, что уголовники — заблудшие люди, что они, мол, не против советского строя, а вот контрики (так называли в обиходе всех, осужденных по 58-й статье УК, от слова контрреволюционер) — с ними надо бороться так, чтобы «земля горела у них под ногами» (так писали тогда в газетах). Уголовники умело пользовались этим положением, занимая привилегированные посты в лагере, начиная от хлеборезки, кухни, КВЧ (культурно-воспитательной части), ЧОС (части общего снабжения), УРЧ (учета и распределения рабочей силы), до нарядчиков, ведающих выводом на работу зэков (заключенных). Уголовники грабили и обделяли политических скудными лагерными пайками, причем делали все это на глазах у начальства.
Как и многие другие, брошенные в тюрьмы и лагеря жестоким режимом, возглавлявшимся Сталиным (в лагерях его называли «Ус»), Цви Прейгерзон все это пережил сам. Находясь в лагере, он трудился на общих работах, но чаще — по своей специальности. В бараках, зачастую больной, он изобретал, усовершенствовал, искал новые пути обогащения угля. Да иначе он и не мог работать, так как стремление к творчеству постоянно сопровождало эту глубоко одаренную личность. Известно, что находясь в лагере, он даже получил патент на изобретение. Вернувшись в Москву после реабилитации, он восстановился на прежней работе в качестве доцента Московского горного института и продолжил свою преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность.
Знавшие этого удивительно скромного человека вспоминают о нем с любовью и почтением. Среди своих друзей и сотрудников по работе он всегда пользовался заслуженным авторитетом, был уважаем как наставник и скромнейший человек. Неизменно вежливый, с тонким чувством юмора, Прейгерзон покорял всех, соприкасавшихся с ним.
Свое время он умел рационально использовать, разделяя его и для труда, и для литературной деятельности, и для бесед с друзьями, для утренней гимнастики и вечерних прогулок. Цви по несколько часов в день работал в Ленинской библиотеке, читая специальную и художественную литературу, а также все доступные для рядового посетителя книги на иврите. Сам он писал много на иврите, но почти никому не говорил об этом.
Мне посчастливилось быть близко знакомым с ним. Мы часто беседовали на разные темы и обменивались книгами. Я был последним из друзей, навестившим его дома. А было это так. В пятницу 11 марта 1969 года, к десяти часам утра, я приехал к нему домой посидеть, поговорить, посмеяться. Он меня очень хорошо принял. Угощал мятными конфетками (они всегда были у него под рукой), мы пили чай по способу моей заварки. Его жена, Лия Борисовна, по большей части принимавшая участие в наших беседах, подзадоривала меня испечь творожник по ее рецепту… Я тепло попрощался, уехал домой, договорившись, что через два-три дня мы встретимся вновь. Однако встретиться больше не довелось: мне позвонила Анна Ефимовна Керлер и сообщила, что Цви в больнице — у него случился тяжелый сердечный приступ, и что нужно срочно разыскать Меира (Меира Берковича Гельфонда, о котором немало рассказано в «Дневнике…»). Я поехал к Меиру домой, зная, что он вот-вот появится после ночного дежурства в больнице. Сборы продолжались считанные минуты, и на такси мы быстро добрались до больницы. Меир вошел в палату реанимации, где лежал Цви. Меня туда, естественно, не пустили Меир, как специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, вместе со своими коллегами несколько часов подряд боролся за жизнь Цви Но смерть взяла верх над жизнью…
Цви скончался 15 марта 1969 года, не приходя в сознание Прощание с покойным происходило 18 марта в прозектории клиники I Мединститута в Москве, и в тот же день состоялась кремация, согласно завещанию покойного.
Мне было известно, что Цви был против кремации, он хотел быть похороненным согласно еврейской традиции, но так как ему было отказано в выезде в Израиль (в 1967 году, до Шестидневной войны), он просил своих близких, чтобы после смерти его тело кремировали и перевезли прах в Израиль для захоронения.
В тридцатый день траура, в соответствии с еврейской традицией, в доме покойного собрались его родные, друзья и товарищи для поминовения. Слова воспоминаний были произнесены его близкими товарищами по лагерю, его друзьями: Меиром Баазовым, Иосифом Керлером, Меиром Гельфондом и мною.
Читать дальше