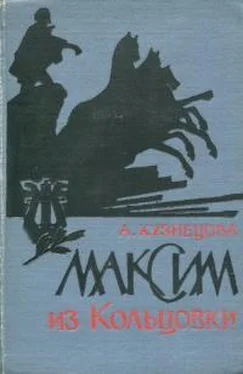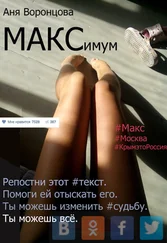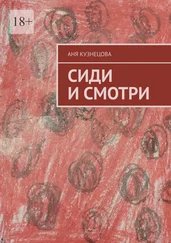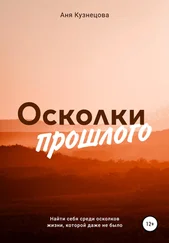Громыхая по замерзшей земле, грузовики мчались без остановки сутра до вечера. Началась метель. Снег несло откуда-то сбоку, он бил в лицо мелкими колючками, царапал щеки, нос. Изредка грузовики останавливались. В кузов заглядывал солдат и кричал:
— Как вы себя чувствуете, Максим Дормидонтович?
— Отлично!
И опять они мчались. Дорога становилась все хуже. На ухабах пустая бочка вначале только «притопывала» на месте, а когда выбоины на дороге стали глубже, она, изловчившись, перевернулась на бок и стала метаться по кузову. Когда набегала на Максима Дормидонтовича, он отбрасывал ее ногами, и эта вынужденная гимнастика была на пользу: он немного согревался.
На другой день в придорожной маленькой чайной, набитой народом, передвигающимся кто куда, обогрелись, немного закусили:
— Эх, Максим Дормидонтович, как это вы поете незабываемо: «О скалы грозные дробятся с ревом волны…» или «Глухой неведомой тайгою…»
У солдата мечтательные голубые глаза и хороший баритон, но, главное, он оказался земляком Ивана Семеновича Козловского, даже из той же деревни — Марьяновки.
— Краше ее на свите нема! Яки же там садочки, дивчата… — говорил он, точно пел.
— А яки галушки! — добавил второй солдат.
— Эх ты, проза! Я говорю о поэзии…
В теплом помещении все разомлели, потянуло ко сну. А за окном еще больше разгулялась вьюга. Но надо было ехать. И опять снежная степь, «разговор» пустой бочки, теперь уже прихваченной веревкой.
На третьи сутки как-то сразу вдалеке выступили очертания большого города. Куйбышев! Только тут Максим Дормидонтович почувствовал, как устал и промерз.
«Все равно сидеть в Куйбышеве не буду, поеду один или с бригадой артистов на фронт», — решил для себя Михайлов. Он даже придумал мотивировку, несложную, но убедительную: есть певцы, которые боятся холода, и им вредно петь в неподходящих условиях, а ему все нипочем. К стуже он с детства привычен!
В город приехали под вечер. Куда податься? Ни адреса, ни где искать знакомых и свою семью, он не знал.
— Давайте к театру оперы и балета, — попросил артист.
И вот к подъезду театра подошел запорошенный снегом грузовик. Перешагнув порог в фойе театра, Максим Дормидонтович увидел себя в зеркале, какой он грязный, поцарапанный.
— Максим Дормидонтович, голубчик, вы ли это? — невесть откуда появился Андреич. Старик прослезился: — Господи, а мы уже отчаялись, думали, не приключилось ли с вами чего! Завтра «Черевички», а вас все нет и нет, телеграмму в Чистополь подавали, но и там вас потеряли…
Дом, где были размещены артисты Большого театра, стоял напротив, и скоро Максим Дормидонтович сидел с Александрой Михайловной возле булькавшего электрического чайника, в который раз рассказывая о своих дорожных приключениях.
В театре готовились оперы «Черевички», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник», «Иван Сусанин». За отсутствием декораций некоторые оперы давались в концертном исполнении.
Знакомые роли, имена, но душа Максима Дормидонтовича была уже не здесь, ему все время помнилось, как, прощаясь с ним, шофер сказал: «Будете на фронте — спасибо вам солдаты скажут!»
Но Михайлов нужен был и в Куйбышеве. Он являлся сейчас единственным, исполнителем роли Сусанина. Самосуд, понимая настроение Максима Дормидонтовича, решил заинтересовать его и выполнить вместе с тем давнюю затею — предложил ему роль дон Базилио.
Со времен Шаляпина повелось, что Базилио должен быть высоким, а Бартоло — маленьким.
— Давайте сделаем наоборот: пусть Бартоло будет высоким и по возможности худым, к примеру, Колтыпин, — назвал он фамилию одного из басов, — а вы — Базилио, ниже его и толще, можно прибегнуть еще и к «толщинкам». Я вижу вас в этой роли, давно вижу и чувствую!
Самосуд не раз говорил на эту тему с режиссером. Природный юмор Михайлова, мягкость и мощь, голоса сделают эту роль по-новому интересной и вокально отличительной. Режиссер был того же мнения. И вот начались уроки, а потом и сценические репетиции. У нового дон Базилио на какой-то период было занято все свободное время. Как вдумчивый скульптор, он лепил эту роль. Но на этот раз его творческая работа не продолжалась, как раньше, дома. Переступив порог, он жил другой жизнью — радио, газеты, обсуждение сводок Информбюро. Он завел огромную карту, как называл ее Андреич, «полководческую», на которой флажками отмечал все изменения на фронте.
В один из дней, когда Максим Дормидонтович пришел в театр, в хоровом зале уже шел митинг. Сквозь замерзшие окна светило яркое декабрьское солнце, заливая лучами весь зал, радостные лица артистов, столпившихся у репродуктора, из которого неслась весть о разгроме гитлеровцев под Москвой.
Читать дальше