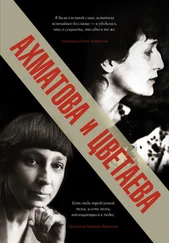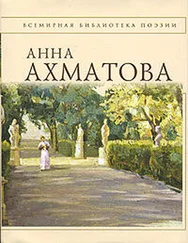Одна из особенностей цикла, которая бросается в глаза — это неявное указание. Вот несколько примеров из разных стихотворений цикла:
А тот, кого учителем считаю…
Все это разгадаешь ты один…
В той ночи, и пустой и железной…
И тот горчайший гефсиманский вздох…
И сердце то уже не отзовется…
Здесь личные и указательные местоимения использованы не совсем привычным образом. Обычно в речи или тексте то, на что они указывают, становится понятно из ближайшего контекста. В приведенных примерах это правило нарушено. В каких-то случаях мы можем понять, о чем или о ком идет речь, из заглавия или эпиграфа. Так, в первом случае под учителем имеется в виду Иннокентий Анненский, в последнем — образ сердца, которое уже не сможет отозваться, связано с Николаем Пуниным. В других случаях требуется знание определенных текстов или биографического контекста. Но во всех этих случаях от читателя требуется встречное движение понимания, отвечающее на саму интонацию поэтического текста.
Бродский в «Музе плача» так писал об этом цикле: «Если Ахматова не умолкла, то, во-первых, потому, что опыт просодии включает в себя среди всего прочего и опыт смерти; во-вторых, из-за чувства вины, что ей удалось выжить. Стихотворения, составившие „Венок мертвым“, являются попыткой дать возможность тем, кого она пережила, найти приют в просодии или, по крайней мере, стать ее частью. Дело не в том, что она стремилась „обессмертить“ погибших, большинство из которых уже и тогда были гордостью русской литературы, обессмертив себя самостоятельно. Она просто стремилась справиться с бессмысленностью существования, разверзшейся перед ней, с уничтожением носителей его смысла, одомашнить, если угодно, невыносимую бесконечность, заселяя ее знакомыми тенями. Кроме того, обращение к мертвым было единственным средством удержания речи от срыва в вой» [96] См. приложение. С. 265.
.
Или же средством выживания и борьбы с безумием, каковым оказался «Реквием», описывающий и обобщающий трагический опыт женщин в тюремных очередях, где они ожидали свидания с мужьями и детьми, или возможности передачи. Ожидание это во многих случаях оказывалось тщетным.
Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.
И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.
И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):
Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья.
Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.
4 мая 1940
И вновь из эссе «Муза плача»: «Сила „Реквиема“ состоит в том, что подобная биография была слишком типичной. „Реквием“ оплакивает плакальщиц: матерей, потерявших детей, жен, обреченных на вдовство, порой тех и других, как в случае с автором. Это трагедия, где хор погибает раньше героя» [97] См. приложение. С. 266.
.
В «Листках из дневника», в набросках о Мандельштаме Ахматова пишет: «Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. Осип Эмильевич, который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: „Стихи сейчас должны быть гражданскими“, и прочел „Под собой мы не чуем“. Примерно тогда же возникла его теория „знакомства слов“. Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических» [98] Ахматова А. А. Собрание сочинений. Т. 5. C. 41–42.
.
Результатом такого потрясения и явился «Реквием». Ахматова создавала его, зная, что эти стихи могут грозить ей смертельной опасностью — как стало смертельным для Мандельштама стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…».
Вспоминая те страшные годы и тюремные очереди, в которых родились многие строки поэмы, Лидия Чуковская пишет: «В очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: „пришли“, „взяли“; Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из „Реквиема“ тоже шепотом, а у себя в Фонтанном доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь светское: „хотите чаю?“ или: „вы очень загорели“, потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. „Нынче такая ранняя осень“, — громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был обряд: руки, спичка, пепельница, — обряд прекрасный и горестный».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу