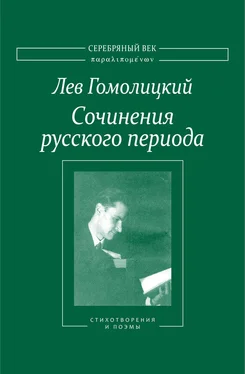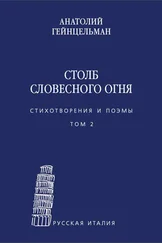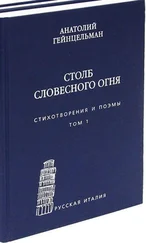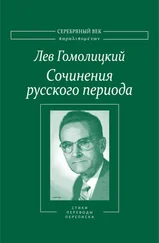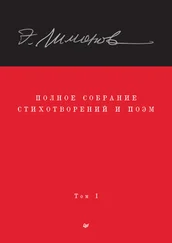Я знаком с творчеством одного русского молодого лирика – поэта в настоящем смысле этого слова, а не в том, в каком теперь часто легкомысленно называют поэтами больших детей, забавляющихся вялыми рифмами и бесцветными словами. От каждого его образа веет жгучим солнцем духа. Пройдя религиозно-философскую школу Льва Толстого, он бы не понял выражения «воспевать любовь». Он принимает только всечеловеческое значение понятия любви. Жизнь имеет для него соленый привкус пота, крови и солнца и вся проникнута духом, как лучи Рентгена просекают человеческое тело. До сих пор наша поэзия не поспевала за русской религиозно-философской мыслью и романом. Рядом с гигантом Толстым и Достоевским мы читали публициста в поэзии, Некрасова, и эта пропорция сохранялась до тех пор, пока мы еще могли одновременно учитывать все свои литературные силы. Поэзия, обладающая такой творческой силой, как синтез на русской почве, была всегда позади и уровнем несколько ниже прозы. Сравнивая то, что пишет этот мальчик, с тем, что писали Тютчев, Вл. Соловьев и Блок, – мне кажется, я слышу новый голос, который говорит из глубин, где сплелись «корни существования». Он зарабатывает простым трудом, не имея возможности читать новые и часто даже старые книги, оставаясь в полной глуши совершенно оторванным от течения современной жизни. Что бы он дал нам, если бы был перенесен в условия действительной жизни!
Конечно, трудно без сопротивления принять отождествление этого портрета с самим Гомолицким: слишком сильно этот пассаж походил бы на хвастовство, несвойственное всему облику и поведению поэта, как мы его знаем по всем другим источникам. Однако чистой саморекламой его можно было бы счесть, во-первых, если автор не скрыл бы имена описываемых им литераторов, а во-вторых, если бы его предположительная авто-аттестация не находила полного подтверждения у Рафальского в приведенном выше отрывке из письма к А. Л. Бему («Сей – воистину поэт; пишет даже не пудами, а тоннами. <���…> Ни разу не увлекался ничем, кроме стихов, ни разу, по-видимому, не усумнился в том, что искусство есть дело благородное»).
Предложенные в статье идеальные портреты «праведников» созданы были не праздным самолюбованием автора. Результаты варшавского конкурса показали Витязевскому и Гомолицкому насущную необходимость основать собственный журнал, и издательская конъюнктура, возникавшая во Львове в связи с реформой и расширением деятельности Ставропигиона и Русского Голоса , позволяла верить в осуществимость этих планов. О намерении издавать журнал молодых было объявлено в За Свободу! [177] «К созданию русского журнала (Письмо в редакцию)», За Свободу! , 1929, 21 июля, стр. 5.
и Русском Голосе одновременно со статьей Гомолицкого «О самом важном». Ссылка на существование безвестных «праведников» преследовала конкретные тактические цели – она должна была содействовать мобилизации необходимой поддержки задуманному журналу.
О том, что этот журнал должен был быть совместным предприятием Витязевского и Гомолицкого, и о том, какой именно должна была быть роль Гомолицкого в этом дуумвирате, дает представление газетное сообщение:
К вопросу об издании русского журнала
Инициативная группа по изданию русского журнала, который бы являлся органом русской молодежи, настоящим доводит до сведения заинтересованных лиц, что о дне выхода и месте издания журнала будет сообщено в ближайшем будущем.
Инициативная группа с удовлетворением отмечает тот интерес, который встретило ее начинание. На полученные письма ответы будут даны по рассмотрению и обсуждению их инициативной группой.
Сводка полученных писем будет произведена Л. Н. Гомолицким (Скит Поэтов в Праге, – литерат. содружество «Четки», Острог), после чего результат этой сводки будет опубликован. Громадное количество полученных писем задержало несколько подготовительную работу. Настоящим группа молодежи приносит свою искреннюю благодарность всем откликнувшимся на ее призыв.
Все письма, поступившие по поводу журнала на имя С. Витязевского, переданы для сводки. Ответ на них будет дан инициативной группой, а не С. Витязевским лично. В виду этого С. Витязевский не мог дать ответа на многие письма, обращенные лично к нему и касающиеся вопроса издания журнала.
Инициативная группа
[178] «Письмо в редакцию», Русский Голос , 1929, 19 сентября, стр. 4.
Ясно, что, как и в других их совместных акциях, интеллектуально-стратегическое лидерство в журнале было бы за Гомолицким, тогда как за Витязевским закреплены были организационно-практические функции, обусловленные его контактами со Ставропигийским институтом, издательская деятельность которого переживала в те месяцы бурный подъем. Вошедший в 1927 году в число членов института Ваврик предпринял шаги по улучшению и расширению литературных материалов в выходившем ежегодно Временнике Львовского Ставропигиона [179] См. об этом издании справку М. Галушко в кн.: Перiодика Захiдноï Украïни 20-30-х рр. ХХ ст. Матерiали до бiблiографiï . Т. 4. За редакцiєю М. М. Романюка (Львiв, 2001), стр. 43–48.
. Если поначалу ему пришлось заполнять страницы перепечатками хрестоматийных текстов русской классики, а также недавно появившихся произведений эмигрантской поэзии, главным образом на темы национальной истории (Пушкин, Лермонтов, Рылеев, А. Майков, Фофанов, Фет, «Русь» С. Есенина, Галина Кузнецова, Глеб Струве) [180] Временник Ставропигийского Института с месяцесловом на 1928 год (Львов, 1927).
, то вскоре он сумел привлечь к изданиям Института литературную молодежь. Энергичным помощником в этом явился Витязевский. В очередном выпуске ежегодника он выступил с поэмой в «народном» стиле, воспевавшей героическую борьбу древнего Киева с татарами [181] Семен Витязевский, «Степовики окаянные (Баллада о Киеве – солнышке и степной орде)», Временник Ставропигийского Института с месяцесловом на 1929 год (Львов, 1929), стр. 18–21. В публикации поэма посвящена была В. Р. Ваврику.
. В возобновленном в начале 1930 г. после многолетнего перерыва Научно-Литературном сборнике Галицко-Русской Матицы он поместил статью, доказывавшую неразрывную связь древнего народно-поэтического творчества южно-русских и северно-русских земель: «южно-русская поэзия есть гармоническая часть поэзии общерусской, ее неразрывное звено, тесно связанное своими истоками и источниками творчества», – заявляла она, полемизируя с украинскими учеными-этнографами [182] Семен Витязeвский. «Единство русской народ<���ной> словесности», Научно-литературный сборник Галицко-русской Матицы . <���Вып. 1.> Год издания LXV. Периодическое издание под редацией В. Р. Ваврика (Львов: Типография Ставропигийского Института под управлением М. Мацана, 1930), стр. 44. Ср.: Семен Витязевский, «Единство русской народной словесности», Русский Голос (Львов), 1929, 28 ноября, стр. 2–3.
. К издательским начинаниям В. Р. Ваврика Витязевский привлек товарищей по «Четкам». Так стихотворения Андрея Басюка, Льва Гомолицкого и Олега Острожского появились на страницах тома Галицко-Русской Матицы, заняв почетное место в его поэтическом отделе. Здесь впервые в печати – хотя и во фрагментарном виде (цикл из пяти стихотворений) – появилась главная книга Гомолицкого острожского периода «Дуновение» [183] Рецензируя этот том, Витязевский особо упомянул эту публикацию: «Из многочисленных стихов необходимо выделить цикл стихов Льва Гомолицкого, одного из талантливейших членов содружества “Четки”. Поэт дал в первом сборнике несколько отрывков из книги “Дуновение”. Судя по ним, книга эта является большой художественной ценностью. Особенно радует у Л. Гомолицкого его чеканенный русский язык и легкость его оборотов». – С. Витязевский, «Сборник Галицко-Русской Матицы», Русский Голос , 1930, 20 февраля, стр. 4. «Среди книг».
. По сравнению с прежними публикациями в газетах «четковцы» ныне обретали более солидный – «журнальный» – статус [184] Научно-литературный сборник Галицко-Русской Матицы рассматривался как «толстый журнал», и предполагалось, что он будет выходить дважды в год. Но этот первый выпуск, вышедший в конце января 1930 (Неогалицкий, «Русская жизнь в Галичине (От нашего корреспондента)», За Свободу! , 1930, 30 января, стр. 5), остался единственным.
. С другой стороны, их участие в изданиях Ваврика создавало впечатление подъема литературного творчества русской молодежи края. Львов становился центром интенсивной русской литературной жизни. Это отвечало курсу Ставропигийского института, одной из целей деятельности которого было «оживление исторической традиции Галицко-Володимирской Руси, в состав которой когда-то входили почти все те русские земли, которые ныне принадлежат к Польскому государству. Историческая традиция – вот та платформа, на которой последует теснейшее объединение Галичины, Волыни и других русских земель, входящих в состав Польского государства» [185] Д-р Адриан В. Копыстянский, «Исторические труды Исидора Ив. Шараневича», Временник Ставропигийского Института с месяцесловом на 1930 год (Львов, 1930), 2-я пагинация, стр. 29.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу