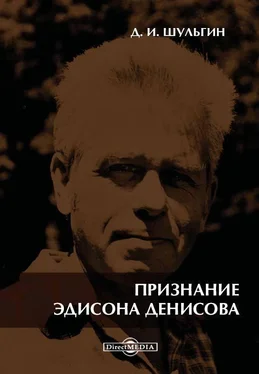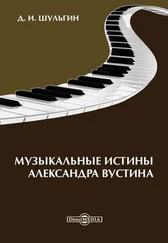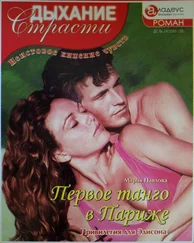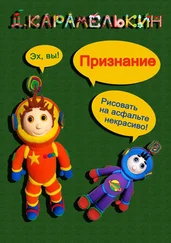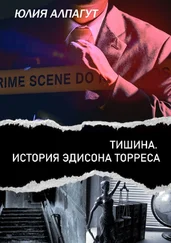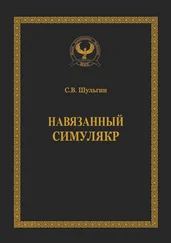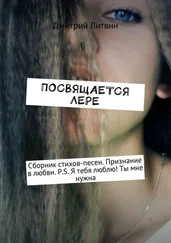Был там и еще один технический прием, который я нашел «сознательно». В конце раздела на слова Введенского «Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти» пианист подходит к настоящим – металлическим – колоколам и играет на них по нотам тихую, как бы отдаленную ото всего остального материала, музыку, а певица в то же самое время подходит к колоколам, сделанным из стекла, то есть уже не настоящим, и свободно, не по нотам, а импровизационно имитирует игру пианиста. В результате же получается какой-то сюрреалистический диалог колоколов из двух разных по характеру сфер. И когда это, кстати, впервые исполнялось в Малом зале консерватории, то прозвучало все очень хорошо. Причем, мы использовали даже не музыкальные, а самые обычные стеклянные и металлические предметы: кружки, бутылки, разные куски рельсов, каких-то ржавых труб, буквально подобранных на улице. А на премьере в Англии, где постановку частично делал Любимов, так там он колокола вообще сделал из кусков какого-то автомобиля, выброшенного на свалку, что, по его мнению, должно было символизировать что-то страшно деформированное, мертвое, быть каким-то образом смерти, ее символом. И еще один пример – это игра в «Кассирше» двух роялей в канон: одного – «нормального», а другого – «ненормального», препарированного. Препарированный рояль здесь все имитирует с искажениями, и не только, естественно, тембровыми, но даже и звуковысотными.
Вот все эти приемы, – все они мною искались сознательно. Я чувствовал, что в эти моменты нужна очень необычная звучность, какая-то необычная раздвоенность музыкальных красок как бы на два мира – реальный и сюрреальный.
А вообще, все-таки, всякая техника теперь у меня где-то на заднем плане: я ее больше не ищу – она просто во мне есть, и всплывает уже в конкретном музыкальном материале сама по себе…
– В вашем творчестве постоянно ощущается стремление к выражению эмоционально многогранного мира. Но при этом видно, что вы скорее тяготеете к поиску утонченных, часто до крайности утонченных психологических нюансов, чем к игре на ярких контрастах. Даже кульминации ваших сочинений – это обычно не всегда самое громкое, самое мощное, а скорее, напротив, тихое, умиротворенное, светлое.
– Очень трудно говорить о себе. Со стороны это всегда виднее. Но мне кажется, что, по крайней мере, иногда это мне и в самом деле хочется найти. Меня всегда влекло к фиксации совсем неуловимых деталей. Это было со мной и в «Живописи», и в «Итальянских песнях», да и во многих других сочинениях. В последней части «Итальянских песен» мне, например, все время хотелось схватить какие-то отдельные моменты исчезающего, как бы улетающего от нас Времени. И поэтому, наверное, для меня здесь стали очень важными последние слова текста. Как правило, такие слова, сказанные в самый последний момент, в последнем такте для меня всегда становились самыми главными. Скажем, когда певица в «Солнце инков» заканчивает свою партию и начинается небольшое инструментальное послесловие, то и там квинтэссенция – это последние ее слова, они – самое важное, – это квинтэссенция всего того, что я хотел сказать всем своим сочинением. И это происходит у меня часто. Взять, хотя бы, тот же деформированный канон металлических и стеклянных колоколов в «Голубой тетради» или конец оперы «Пена дней». Она длится более двух часов и весь смысл ее – это движение к всеозаряющей своим светом заключительной песне оперы. Это песня одиннадцати маленьких слепых девочекподростков – песня о Христе. Здесь самые главные слова всей оперы, они придают смысл всему, что было до этих последних восьми тактов. И именно здесь рождается самое светлое, самое нежное, самое чистое: мягкий, почти невесомый ре-мажорный аккорд у струнных; тихие, печальные – флейта, скрипка соло, челеста – все это как прощание, как прощальная песня. И именно здесь звучит и самое главное слово…
Мне, вероятно, этим близка и живопись Бориса Биргера. У него всегда, в каждом полотне есть это желание схватить, передать все то самое неуловимое, самое тонкое, что есть в человеческой душе.
– И это, как мне кажется, делается вами иногда и через введение иностилического материала. Как, например, в том же Концерте для скрипки.
– Да, конечно. И когда там впервые появляется цитата из Шуберта, из его «Прекрасной мельничихи», как сразу меняется здесь весь характер музыки: такое впечатление, что он сразу уводит нас совсем в другие сферы. И, кстати, опять то, что происходит здесь в конце сочинения, особенно последние страницы – это опять и самые главные такты, это смысловой и духовный центр сочинения.
Читать дальше