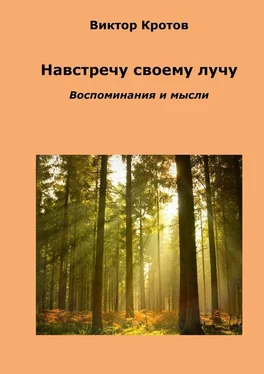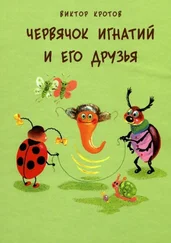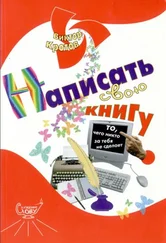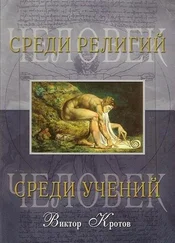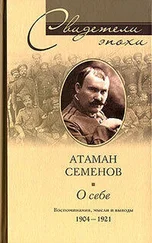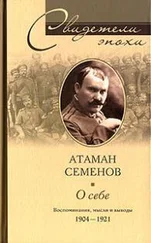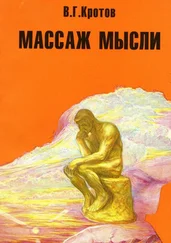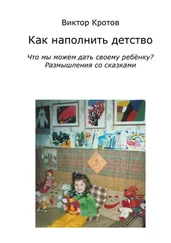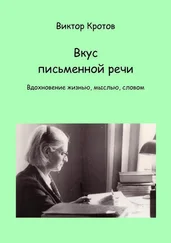Спасительное целомудрие юности
Не хочется быть ханжой и декларировать, что сексуальная революция – это скорее деградация, чем прогресс, что нынешнее время развращённее предыдущего, да и нет у меня охоты что-то доказывать. Но свидетельствовать – моё право.
Отрочество, начало юности – по природе своей целомудрено, несмотря на пресловутую «игру гормонов» или на констатацию «омоложения начала сексуальной жизни». Если в этот период у человека есть достаточная пища для ума и души, примитивные биологические и психические импульсы типа «Скорее! Хочу секса!» отходят в тень, дожидаясь более углублённой мотивации.
Если окружающее общество поддерживает молодёжь, обеспечивая наполнение её жизни реальными возможностями реализовывать себя, оно укрепляет её в целомудрии. Если такой поддержки маловато, дело хуже. А если ещё принимается как должное смакование радостей секса в поп-культуре, остаётся уповать на индивидуальные силы устойчивости каждого человека в отдельности.
В нашем классе большинству повезло. Было на что устремить интерес, и это притормаживало «основной инстинкт», удерживало его в определённых границах. Хотя у многих внимание к противоположному полу было активнее, чем у меня, оно вроде бы не простиралось дальше флирта и поцелуев.
Да и пресловутое «В Советском Союзе секса нет» 108 108 «В Советском Союзе секса нет»: фраза из телевизионной передачи советских времён, ставшая ироничным символом ограничений принятой тогда идеологии.
, как ни смешно оно выглядит, играло какую-то сдерживающую роль.
Пожалуй, только одна из наших одноклассниц жила слишком взрослой жизнью, это было общеизвестно, даже на комсомольском собрании обсуждалось. Математика ей была не очень интересна, так что не совсем понятно, как она попала в наш класс. По какому-нибудь блату, наверное… Ничего не знаю о дальнейшей её жизни, но на одной из последних встреч класса кто-то сказал, что она постриглась в монахини…
Не знаю и про себя, насколько я сумел бы выдержать какие-то более настойчивые искушения. Думаю, что судьба тоже не была во мне уверена и решила ничему такому меня не подвергать.
Наша учительница химии и биологии Татьяна Евгеньевна Богословская организовала нам экскурсию, которую я вспоминаю до сих пор, – в Дарвиновский музей. Необычным было, прежде всего, то, что такого музея тогда не существовало на карте Москвы. Его коллекции копились в тесных комнатах здания Педагогического института. Сколько лет я ходил по Хользунову переулку и не подозревал об этом.
Коллекции, собранные там (во всяком случае, те, что мы увидели), завораживали зримой картиной эволюции. Но больше всего меня поразил создатель и хранитель музея. На первый взгляд, это был невзрачный бритый старичок, но когда он начинал рассказывать… Не только о музее, не только об эволюции – о Жизни, о Мире, о Человеке. Его звали Александр Фёдорович Котс.
Рассказы его были удивительно насыщенными, о чём бы он ни говорил, потому что ему было что сказать. Он говорил – собой, своей жизнью. Эволюцию он показывал – на одной коллекции, на другой, на третьей. Вот колибри, вот попугаи, вот тетерева… Возникало ощущение великого Ума природы, проявляющегося во всём: в окраске оперения, в повадках птиц и зверей, в замысловатых узорах развития. Мне ещё не приходила мысль о том, что природа исполнена мастерством Создателя, но бессознательно что-то такое волновало и наполняло радостью.
Он говорил о том, каким должен быть музей (а музейное дело он изучал во многих странах) – и сразу хотелось открыть какой-нибудь музей, потому что нет ничего важнее на свете. Рассказывал, как у них с женой родился сын – и они в это же время взяли в семью… детёныша шимпанзе! И долго растили обоих детёнышей (или детей?) вместе, производя уникальное наблюдение сходств и различий в их развитии.
Личность Котса была самым большим впечатлением от поездки в Дарвиновский музей. Эхо его личности и позже раздавалось в моей жизни.
Когда в «Комсомольской правде», где я некоторое время был, так сказать, внештатным студентом (о чём ещё расскажу), мне предложили попробовать самому найти тему для статьи, то именно Дарвиновский музей пришёл мне на ум, и меня поддержали. Я появился там снова, но, увы, Александра Фёдоровича уже не было в живых.
В этот раз я общался с другим колоритным музейщиком – Петром Петровичем Смолиным, бородатым биологом. Набрался материала, написал очерк. Владимир Губарев помог мне привести его в приемлемый вид. Но нашёлся человек, который написал об этом лучше, – известный журналист Василий Песков. Естественно, его и опубликовали. Я не жалел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу