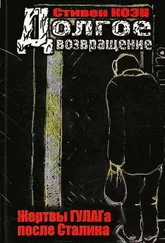Старик отнесся к инструкциям Маркиша с высокой ответственностью. Он считал своим долгом ежедневно ходить на базар и по нескольку раз в день вести со мной беседы. О еврейской истории рассказывал мне старик, о еврейской религии. И еще — косвенно, без нажима — о том, что наиболее удачным из своих детей считает он Меира, «вышедшего в бухгалтеры». Занятия Маркиша старый Давид всерьез не принимал, хотя и осуждать открыто не решался. Он не понимал стихов сына, а, быть может, и вовсе не читал их. Вот работа Меира — это настоящее дело для еврейского молодого человека! Меир был прочной гордостью отца, Перец — непонятностью, несколько даже пугающей.
Дней через десять вернулся из Москвы Маркиш — стремительный, возбужденный, с неизменным портфелем в руке.
— Авратинер прислал подарок Соне, — сказал Маркиш, извлекая из портфеля пакет (семья Авратинера, в чьем доме я познакомилась с Маркишем, жила тем летом в Ворзеле). — Отнеси ей!.. А тебе я ничего не привез.
— Мне ничего не надо, Маркуша! — сказала я совершенно чистосердечно. — Ты ведь сам приехал…
Неожиданно для меня «железный» Маркиш растрогался, отвернул от меня лицо с повлажневшими вдруг глазами.
— Я пошутил, Фирка, — сказал Маркиш, протягивая мне коробочку с коралловым ожерельем, первым в моей жизни.
А я тоже приготовила Маркишу подарок: у нас должен был родиться ребенок.
Маркиш, узнав об этом, бурно обрадовался, сказал:
— Заказываю мальчика. Смотри — девочку не возьму!
Я не поняла — шутит Маркиш или говорит серьезно, и страшно боялась вплоть до самых родов. Родился мальчик — как хотел Маркиш.
В середине августа приехала в Ворзель моя мама — мы должны были вместе с ней вернуться в Москву, где ждал меня Университет. Маркиш же собирался остаться в Ворзеле — поработать. Ему нравилось в Ворзеле.
Здесь-то, на нашей ворзельской террасе, и состоялось знакомство моей красивой, статной мамы с облаченным в черный лапсердак библейским Давидом. К величайшему удивлению Маркиша, старик, знакомясь, протянул маме руку — закон религии запрещал ему здороваться за руку с женщиной. За столом, однако, старый Давид заметно потускнел и упорно не глядел на маму. Огорчившись, я обратила на это внимание Маркиша.
— Сейчас я это улажу, — сказал Маркиш и поманил маму из-за стола в комнату.
— Вы носите платье с короткими рукавами, — сказал Маркиш моей маме, — и правильно делаете, Вера Марковна: у вас красивые руки. Но поглядите на моего старика — он сам не свой, ему нельзя смотреть на открытые руки женщины, даже такие, как ваши… Набросьте платок!
Мама накинула шаль, и старик успокоился. Пришло время моего отъезда, но Маркиш не хотел отпускать меня.
— Что тебе эта учеба? — говорил Маркиш. — Я тоже Университет не кончал — и ничего, обхожусь… Оставайся! В крайнем случае, пойдешь учиться на следующий год.
Я хотела ехать, настаивала на своем.
— Оставь ты это! — убеждал Маркиш. — Я хочу, чтоб ты родила мне шестерых детей — а на это нужно время. Зачем тебе учиться, когда на работу у тебя все равно не хватит времени?
— А как же равенство между мужчиной и женщиной? — возражала я с жаром молодости. — Я за полную эмансипацию! Женщина сама должна обеспечивать себя!
— А! — досадливо отмахивался Маркиш. — Твоя обязанность — делать жизнь, моя обязанность — зарабатывать на жизнь. Если хочешь называть такое положение эмансипацией — называй на здоровье!
Маркиш, однако, не препятствовал всерьез ни моей учебе, ни последующей работе. Наоборот, он гордился моими маленькими успехами и, словно бы удивляясь им, всячески превозносил их перед своими товарищами-писателями. Мой успехи немного развлекали его.
В самом конце августа мы с мамой уехали в Москву. Я снова поселилась в своей пятиметровой комнатке в Цыганском уголке. К приезду Маркиша я с трудом втиснула туда крохотный столик: у знаменитого Переца Маркиша не было в то время в мире ни кола, ни двора — и он никогда не задумывался над тем, под чьей крышей придется провести ему ночь. Он был абсолютно искренен, когда писал:
— «Миг» зовут меня…
Разбросав привольно руки,
Мир я обнимаю жадно,
И гляжу в немом восторге
Вдаль и ввысь перед собой!
Затея советской власти с «лишенцами» приобретала постепенно иной, куда более широкий, чем вначале, характер. «Грехи» родителей распространились на детей. Советы устроили первый публичный спектакль, омерзительный и грязный: в газетах стали появляться заявления об отказе детей от родителей, жен от мужей. Отказывающиеся били себя кулаками в грудь, выжимали из глаз слезы «чистосердечного» раскаяния: это-де нелепая случайность, они никак не связаны с буржуями, нэпманами, врагами социализма… Неопубликовавших такие заявления ждала суровая кара: они несли на себе клеймо «родственников лишенцев», их не брали на работу и учебу, преследовали и травили. Немного было тех, кто не проявил слабости.
Читать дальше