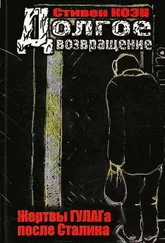Он заканчивал работу к обеду — и тогда наступал для него отдых. Он насвистывал что-то, обыкновенно мелодию «Я в Соренто вернусь», и по тональности его насвистывания я определяла, доволен ли он сегодняшней своей работой. После обеда он ложился вздремнуть на полчаса, вставал свежим и избегал говорить о своей работе. Послеобеденное время — до самой ночи — отведено было отдыху.
А утром он просто не мог, не желал выбрасывать на ветер, разбазаривать слова, нужные ему для другого дела и ценимые им за это.
Закончив пьесу «Нит гедайгет!», он отправил ее в Москву — Михоэлсу и в русский театр Корша. Я думала, он отдохнет несколько дней — но уже наутро после отправки он был, как всегда, молчалив и после завтрака сел к столу: работая над пьесой, он одновременно набрасывал заготовки стихов, и теперь занялся разработкой этих заготовок. Неиспользованное для работы утро он считал утром, убитым собственноручно. Сохранилось в моей памяти несколько таких утр — и до самой ночи Маркиш был тогда сумрачен, замкнут.
Зато после работы, вслед за послеобеденным сном, Маркиша нельзя было узнать. Мы шли с ним бродить по лесу, купаться, в гости. Там же, в Ворзеле, жила в то лето семья Исаака Нусинова — одного из самых блестящих еврейских литературных критиков. Нусинов, несмотря на свою молодость — он был лишь на несколько лет старше Маркиша — был уже профессором Московского университета и заведовал кафедрой литературы в педагогическом институте имени Бубнова, где читал на идиш курс «История западной литературы» для будущих преподавателей еврейских школ и техникумов. Многие из его учеников стали впоследствии литераторами — например, поэт Шлоймо Ройтман, критик Герш Ременник. Факультет, естественно, был закрыт в 1937 году — с началом официального разгрома еврейской культуры в СССР.
Тонкое, с малой бородкой, с влажными восточными глазами лицо Исаака Марковича удивительно напоминало лицо Иисуса Христа. Кто-то из знакомых друзей-художников даже подарил Нусинову рисунок-шарж: Нусинов в венце, где тернии переплетались с розами. Шарж был подписан Блоковской строчкой: «В белом венчике из роз — Впереди Иисус Христос».
В разговорах, в спорах с Нусиновым Маркиш просиживал у него в доме до поздней ночи. Разговоры велись то на идиш, то по-русски — чаще на идиш. Помню реакцию Маркиша и Нусинова на самоубийство Маяковского. Ни тот, ни другой не приняли официальной версии — Маяковский, якобы, застрелился по причине неудачной любви. Что-то более глубинное, более смутное видели они в этой смерти.
Я позволила себе вставить слово в их разговор — слово самого Маяковского:
«— Прохожий! Это улица Чайковского?
— Нет!
Она Маяковского 1000 лет!
Он здесь застрелился у двери любимой…»
— Э, нет! — сказал Маркиш после моей реплики. — Это неважно, что он писал о своей смерти. Важно другое: редко настоящий поэт спокойно умирает в своей постели… Да, неудачно ты выбрала себе мужа, Фирка!
Я тогда крепко запомнила эту его фразу.
Нусиновский дом в Ворзеле был открытым, хлебосольным домом. Маленький Эля, сын Исаака Марковича, был любимцем гостей: мальчик был остроумен, находчив, начитан. Однажды он написал какую-то маленькую пьеску и сам поставил ее, пригласив в качестве актеров мальчиков и девочек из соседних дач. Я не помню, о чем была та пьеса — но талант Эли не выветрился, как часто бывает, с возрастом: спустя тридцать лет он стал известным писателем, драматургом и киносценаристом. Страшная, нелепая судьба выпала на его долю: собирая материал для сценария о военных моряках, он вышел в море на крейсере, принимавшем участие в военно-морских маневрах. Там он умер от сердечного приступа — молодым еще мужчиной, тело его было зашито в мешок, и командир отдал приказ выбросить его в море с чугунной болванкой, привязанной к ногам. Соавтор Эли — Семен Лунгин, на руках которого он и умер в тесной каюте крейсера, умолял командира не выбрасывать бедного Эли за борт — какими глазами он, Семен, посмотрит на вдову Эли, когда вернется в Москву?.. Потребовалось специальное распоряжение высокого военно-морского начальства, чтобы, наконец, труп Эли Нусинова оставили в покое.
В первых числах июля пришел из Москвы ответ: пьеса была принята театром Корша, Маркиша вызывали на авторскую читку. Маркиш был доволен: в труппе театра работали отличные актеры — старуха Блюменталь-Тамарина, блестящий Межинский. Поручив меня заботам своего отца, Маркиш уехал в Москву. Это была наша первая разлука с Маркишем — недолгая, но для меня весьма чувствительная.
Читать дальше