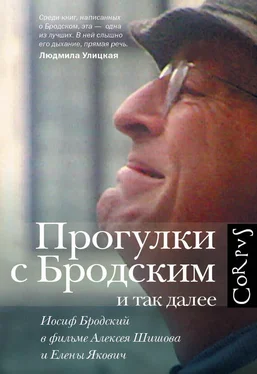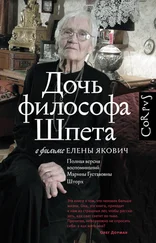И. Бродский.Интенсивность духовной жизни? Это всегда индивидуум. Нет…
Е. Якович.То есть почва здесь не имеет значение?
И. Бродский.Человек – не дерево. Человек, если он куда-нибудь уходит корнями, то скорее вверх, чем вниз. И это всегда зависит от индивидуума. Я думаю, что и в Соединенных Штатах, и в России, поскольку мы говорим об этих двух местах, можно найти одинаковое количество почвенников, ну, примерно ту же пропорцию, и космополитов, если хотите. Зависит от того, что вам интереснее. Мне, например, как правило, интереснее космополиты. Но я обожаю почву. Я обожаю, например, таких людей, как Фолкнер. У нас это, видимо, был бы Лесков. И я не в состоянии говорить, кто лучше, кто хуже и так далее, и так далее. И кому надо дать больше денег, и кому надо дать меньше денег.
А. Шишов.Есть такой старый добрый, прежде всего эмигрантский миф о том, что как бы в Америке и в России разная степень интенсивности духовной жизни. Ну, я не буду говорить о высказываниях Есенина, Маяковского, но это уже эмиграция шестидесятых – семидесятых годов: что Америка, грубо говоря, страна роботов, что там совсем другой тип духовной, интеллектуальной жизни. А в России все кипит, все летает. Да, многое там ужасно, несчастно, тяжело, кошмарно, но… Понятно, что это во многом миф. Но что за ним стоит все-таки? Или ничего не стоит?
И. Бродский.По-моему, немного. Когда вы говорите о духовной жизни и так далее, и так далее, действительно, надо об этом судить по таким оптимальным показателям. Скажем, одним из наиболее характерных, наиболее удобных критериев является сфера искусства. Что касается духовной жизни как таковой, то есть буквально духовной жизни, мы не говорим про церкви, да? Потому что в Соединенных Штатах этого довольно много добра. Но когда мы говорим о духовной стороне Запада, то Фолкнер был американец, Фрост был американец, Беккет был ирландец… И я не думаю, честное слово, вот это довольно жесткие слова, что, скажем, русская литература во второй половине ХХ века дала миру какой-нибудь эквивалент Беккета – которого я считаю действительно самой значительной величиной. Ну, для меня. Я говорю исключительно субъективно. И поэтому, когда мы говорим о духовной жизни… Ну знаете, я думаю, дифференциации никакой нет. Я думаю, Запад ничуть не беднее, если, прошу прощения, не богаче. Это Запад дал Пруста, а не Россия. Россия дала Платонова, да.
А. Шишов.Насколько я понял, вам приходится читать много рукописей. Я так понимаю, что рукописи написаны как по-русски, так и по-английски. Современное состояние, скажем, англоязычной литературы и русскоязычной литературы – чем они все-таки отличаются, на ваш взгляд?
И. Бродский.Прежде всего, средствами. Преимущественно то, что вы получаете по-английски, написано, сделано в контексте современной идиоматики англоязычной поэзии, то есть это свободный стих и так далее, и так далее. Что касается русского материала, попадаются очень часто замечательные стихи. Но беда заключается в том, что за всем этим не уследить, потому что если заниматься этим, на это уйдет все время. Я пытаюсь по мере сил отвечать авторам каким-то образом, делать какие-то толковые, по делу то есть, замечания, но это мне далеко не всегда удается. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете. Есть ли какая-то определенная параллельность или разница? Я думаю, что, в общем, уже хотя бы благодаря тому обстоятельству, что для меня родной язык русский, я с большим вниманием и, что ли, более естественным образом реагирую на русскоязычный материал. И в общем, я мог бы сказать все-таки: то, что я читаю по-русски, как правило, несколько интересней, чем большая часть того, что я читаю по-английски. Хотя существуют совершенно замечательные господа.
Е. Якович.А ваш переход на двуязычие – естественно, весьма условный, поскольку все-таки русский это русский! – он был органичен или потребовал все-таки некоторых усилий внутренних? То есть что было побудительной причиной? Или это случилось естественным путем?
И. Бродский.Это абсолютно естественным, органическим образом произошло. Началось с того, что через год или через два по приезде мне стали заказывать статьи для разных журналов. В частности, например, Review of Books . И я их сначала писал по-русски, потом переводил на английский или просил моих приятелей это сделать. Но потом в один прекрасный момент… Когда вам заказывают статью, всегда существует какой-то срок, на который ее заказывают. И если вот таким образом себя вести, то есть сначала писать по-русски, потом переводить на английский, ни в какие сроки не уложишься. И поэтому в один прекрасный день – я помню, это была статья про греческого поэта Кавафиса – я принялся писать сразу же по-английски. А может быть, это было про Монтале, я не помню. По-моему, про Кавафиса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу