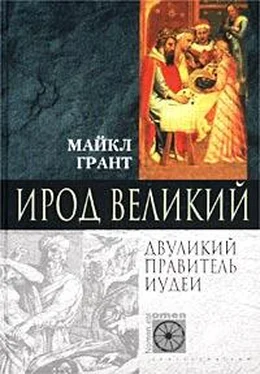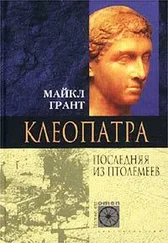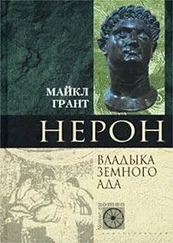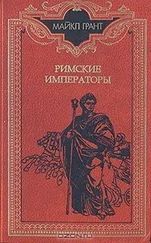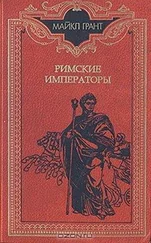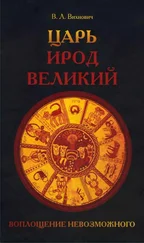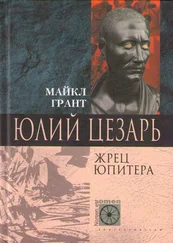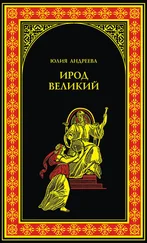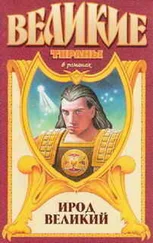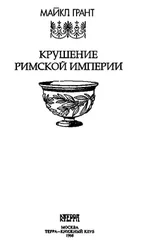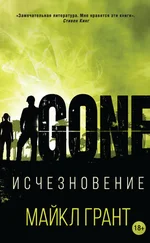Такую же автономию даровали городу, расположенному в чуть более чем 40 милях к северу от Иерусалима, Самарии (Севастии), эллинизированному с IV века до н.э. но вынужденному, как и другие, во II веке покориться Хасмонеям. Что еще удивительнее, Помпей, вероятно, отторгнул от Иудеи всю область Самарии (Шомрон). Самария была плодородной лесистой землей, где исповедовали собственную разновидность фундаменталистского апокалиптического иудаизма, которой по сей день придерживается группа семейств. Самаритяне признавали только первые шесть книг Библии и почитали не Иерусалимский храм, а алтарь на горе Гаризим (его Иоанн Гиркан I разрушил в 128 г. до н.э.). Бог, говорили иудеи, наслал на самаритян львов, потому что они не воздавали ему должных почестей, а правоверные иудеи сторонились их не только из-за религиозных заблуждений, но и потому, что те были потомками чужеземцев, которых поселили там ассирийские цари. Когда в V веке до н.э. некоторые из потомков изгнанных иудеев вернулись на родину, их предводитель Неемия запретил браки с самаритянами из-за их расовой нечистоты, и даже теперь, сотни лет спустя, путники, предпринимающие поездки между Галилеей и Иудеей, все еще часто предпочитали совершать длинный утомительный объезд, нежели проезжать через Самарию. Вот почему Иисуса удивленно спросили: "Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самаритянки? " (Ин. 4, 9).
Этой обособленности Помпею было достаточно, чтобы отобрать у маленькой новой Иудеи и Самарию, а также и Изреэльскую (Ездрилонскую) равнину к северу от нее, плодородную долину, рассекающую центральный горный хребет к юго-востоку от горы Кармель. Галилея, еще дальше к северу, осталась частью Иудеи, но теперь была отрезана от остальной страны широким коридором из Самарии и Изреэля; царство оказалось разделенным наподобие современного Пакистана.
Итак, не удовлетворившись восстановлением границы между собственно иудейской сельской территорией и эллинизированными окраинами с обеих сторон, Помпей предпринял хорошо продуманный шаг — урезал страну до традиционно иудейской сердцевины. Ибо, как отмечал А. Г. М. Джоунс: «Он был убежден, что, если сразу не примет решения по данному вопросу, Иудейское царство в том виде, каким оно было, будет угрожать миру и процветанию Сирии; иудеи — трудный, непокорный народ; к тому же отсталый и суеверный, а их завоевания губительно сказались на культуре Южной Сирии».
Более того, Гиркана II, когда ему вверялось это жалкое владение, лишили царского титула. Его дядя Иуда (Иегуда) Аристобул I (104 — 103 до н.э.), возможно, был первым, кто принял этот царский титул; им определенно пользовался Александр Яннай (103 — 76 до н.э.). А теперь Гиркан II его лишился. Хотя и сохранив положение первосвященника (о чем будет подробнее сказано ниже), он утратил статус царя, получив взамен титул этнарха — высший княжеский чин, но ниже царского звания.
Это понижение в звании правителя означало понижение в должности и его министра Антипатра. Но последний отнесся к этому философски, руководствуясь своим неизменным принципом: поскольку все зависело от римлян, главным делом было ладить с ними. А предпочтительнее действовать под началом Гиркана, то есть в рамках какой ни на есть национальной автономии, чем под прямым господством римлян, лишись они их благосклонности. И уже в следующем году Антипатр сумел оказать полезную услугу одновременно Риму, своим арабским друзьям и родне. Поскольку обстоятельства отвлекли Помпея от намеченного нападения на Арабское государство, к этому намерению вернулся оставленный им в Сирии правителем Скавр. Это создало проблему для Антипатра. Полный успех Скавра был нежелателен, потому что означал бы полное окружение Иудеи Римом, не говоря уж о возможной утрате Антипатром финансовых возможностей в арабских царствах. Но и неудача римлян тоже была нежелательна, потому что она повлекла бы массивное вторжение в этот район римских карательных войск. Антипатр справился с проблемой так умело, что оно, кажется, не осталось незамеченным даже его одиннадцатилетним сыном Иродом. Скавр в пустыне встретился с трудностями: отказала его служба снабжения. Антипатр оказал ему помощь зерном.., и предложил посредничество между римлянами и арабами, которое обе стороны с радостью приняли. По выплате значительной суммы (под гарантию Антипатра) арабского властителя Арета III объявили союзником римлян — разумеется, подчиненным союзником, но ни в коей мере не униженным просителем, каким Скавр вскоре изобразил его на монете. Ибо царство сохранило особый статус среди государств-клиентов. Ободу (Абуду) II (62 — 47 до н.э.), сменившему к тому времени Арета, позволялось выпускать серебряные монеты — привилегия, которую вряд ли когда-либо получали другие вассалы Рима.
Читать дальше