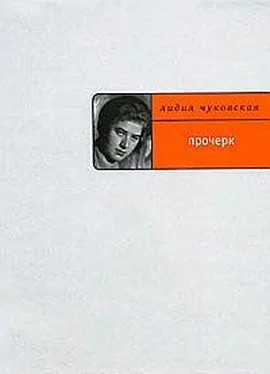Ей даже воздух тронуть больно.
Бровям печали не поднять.
Я отодвинулась невольно —
Мир от нее не заслонять.
Опущены глаза, но видят:
Дорогу видят, воронье,
Людей, которые обидят
Упрямца милого ее.
В бессонном сне ей снятся, снятся
Следы в пыли и вой камней.
Ей тоже, кажется, семнадцать,
Не больше, кажется, чем мне, —
Но в тьме такое разглядела,
Такое видит впереди,
Что сына худенькое тело
Не смеет прижимать к груди.
Над сыном цепенеют пальцы —
Любимого нельзя спасти, —
Напрасно худенькое тельце
Ты станешь прижимать к груди.
Расслышала ль она молчанье
Ночей — там, у ворот тюрьмы, —
Где в тайном чаянье прощанья
Год молча простояли мы?
Машины каждую минуту
Сворачивали от моста,
И кто-то прошептал кому-то:
«Опять сюда. Опять сюда».
Сюда… И, нас пронзив огнями,
Бесшумно замедляет ход…
Не ты, не ты ли вместе с нами
Молчала около ворот?
Она томится без названья,
Та гибель, та немая ночь…
И бомбам не взорвать молчанья!
Молчать невмочь и петь невмочь.
Я помню осенью на Каме
Почтовый ящик над рекой,
С облупленными боками,
Весь вылинявший такой,
И вдруг старуха закрестилась
И перед ним на мостовой
В пыль на колени опустилась —
Она ему, ему молилась,
Письма просила у него.
И я готова помолиться
И ящику, и небесам,
И тополям, и вольным птицам,
И мертвых светлым голосам —
О жизни мальчика родного,
Увиденного в раннем сне,
Младенце-Слово, Боге-Слово…
В какой сейчас он стороне?
Не он ли там, вдоль стен из глины,
Бредет, все голоден, все бос?
Хлебнуть от мутных вод чужбины
Ему сегодня довелось.
Но я не верю, я не знаю,
Не верю в крест, не верю в меч.
К тебе я руки простираю,
О человеческая речь!
Вот он бредет, усталый мальчик…
О чем заводит песню он?
Что, если б этот мальчик-с-пальчик
К спасенью был приговорен?
1943–1944
Ташкент — Москва — Ленинград — Москва
Мы расскажем, мы еще расскажем,
Мы возьмем и эту высоту,
Перед тем как мы в могилу ляжем,
Обо всем, что совершилось тут.
И черный струп воспоминанья
С души без боли упадет,
И самой немоты названье,
Ликуя, рот произнесет.
1944
Среди площадной и растленной —
Из всех рупоров, наизусть!..
Ты вправду бываешь надменной,
Лишенная голоса грусть.
Беззвучна — а громче салюта.
Ты жизнь обняла, как вода, —
Глубокой печали минута,
Пока я жива — навсегда.
Март 1945
С тех пор как я живу ничья
В суровом вихре лет, —
Легко струится жизнь моя,
Но жизни больше нет.
Она осталась за чертой
Далекой той весны,
Улыбки той и песни той,
Что в прах превращены.
Май 1945
Теперь я старше и ученей стала
И прятаться умею от тоски.
А может, и она слегка устала,
И ей за мной гоняться не с руки.
Как бы там ни было, мы разминулись с нею,
И я о том, конечно, не жалею.
Но было что-то доблестное в ней,
Пронзительное что-то и живое,
Как зыбкой ночью очерк кораблей…
Сказать попроще — что-то молодое.
Теперь она ушла и горе увела.
Но горе было все, чем я жива была.
Июнь 1945
Мне б вырваться хотелось из себя
И кем-нибудь другим оборотиться.
Чтоб я — хотя б на миг один! — была не я,
А камень, или куст, или синица.
Ведь куст не помнит города того,
Бездымных труб из моего окошка.
Он вообще не помнит ничего.
От памяти я отдохну немножко.
А там опять — в постылый, мертвый путь.
Иду, иду, иду — а все на месте.
Никак за угол тот не завернуть,
Где страшные меня настигли вести.
Февраль 1946
Какую я очередь выстояла —
Припомнить и то тяжело,
Какой холодиной неистовою
Мне бедные руки свело.
Какими пустынными стонами
Сквозь шум городской он пророс,
Далекими, смутно-знакомыми, —
Бензином пропахший мороз!
Какие там мысли обронены
И ветром гудят в проводах.
Какие там судьбы схоронены
В широких безмолвных снегах.
1947
Каюсь, я уже чужой судьбою —
Вымышленной — не могу дышать.
О тебе, и обо мне с тобою,
И о тех, кто был тогда с тобою,
Прежде, чем я сделаюсь землею,
Вместе с вами сделаюсь землею,
Мне б хотелось книгу прочитать.
1947
Читать дальше