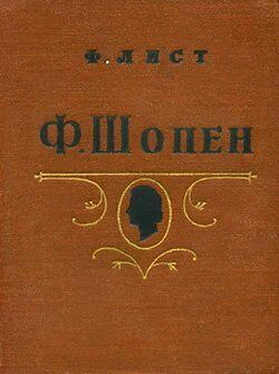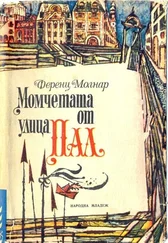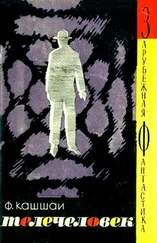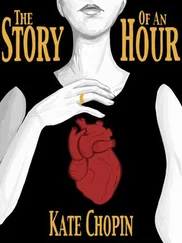Говоря иначе, Шопен не чувствовал потребности воскрешать это жгучее прошлое, которое заимствовало у тропических широт зной и блеск, весь пыл которого дышал острым запахом лавы вулкана, извержения которого наводили временами ужас на чистые и веселые склоны чистой любви, пылающая лава которого душила и погребала навеки воспоминания о часах наивных, невинных и скромных радостей. Таким образом, та, что была, казалось воплощенной поэзией, не внушила песнопений; та, что была, казалось, самой славой, не была прославлена; та, которая утверждала, что любовь, как стакан воды, дается тому, кто его просит, не увидела свою любовь благословенной, свой образ прославленным, память о себе вознесенной на алтари священной признательности! Рядом с нею столько женщин, умевших только любить и молиться, живут века в летописях человечества преображенной жизнью, будь то Лаура де Новес или Элеонора д'Эсте, носят ли они чарующие имена Навзикаи или Сакунталы, Джульетты или Монимы, Тэклы или Гретхен. [184]
Но нет! За всю жизнь на этом острове, ставшем резиденцией богов, благодаря галлюцинациям влюбленного сердца, чрезмерно возбужденного восторгами, пораженного признательностью, Шопен один момент, один единственный момент перенес в чистую область искусства, неожиданно, мановением своей волшебной палочки, – момент тревоги и боли! Жорж Санд рассказывает об этом где-то среди повествований об этом путешествии, выдавая нетерпение, которое уже причиняло ей слишком цельное чувство, осмеливавшееся отожествлять себя с нею настолько, что впадало в безумие от мысли потерять ее, забывая, что она всегда оставляла за собою право собственности на свою личность, когда подвергала ее искушениям смерти или наслаждения. – Шопен еще не мог оставить свою комнату, в то время как Жорж Санд много гуляла в окрестностях, оставляя его одного запертым в жилище, чтобы избавить его от докучливых посещений. Однажды она отправилась на прогулку познакомиться с ненаселенной частью острова; разразилась ужасная гроза, одна из тех южных гроз, которые приводят в содрогание всю природу и, кажется, потрясают ее до основания. Шопен, при мысли о том, что его дорогая подруга находится в соседстве разбушевавшихся потоков, испытал от беспокойства сильнейшее нервнее потрясение. Кризис прошел с минованием грозы, тяготившей воздух. Он пришел в себя перед самым возвращением бесстрашной путницы. Не зная, что предпринять, он сел за фортепиано и симпровизировал изумительную прелюдию fis-moll. [185]

ШОПЕН (1838) Рисунок Ж. Санд
После возвращения любимой женщины он лишился чувств. Она была мало тронута, даже сильно раздражена этим доказательством привязанности, которая, казалось, покушалась на свободу ее действий, пыталась ограничить ее необузданное стремление к новым ощущениям, лишить ее впечатлений, полученных где бы то ни было и как бы то ни было, связать ее жизнь, заковать ее движения правами любви!
На следующий день Шопен играл прелюдию fis-moll; она не поняла тревоги, о которой он ей рассказывал. После он ей часто играл ее, но она не понимала, и если бы догадалась, умышленно отказалась бы понять, что целый мир любви мог вызвать подобные тревоги! В этом случае проявляется вся полнейшая несовместимость, диаметральная противоположность, тайная антипатия между двумя натурами, которые, казалось, лишь для того отдались внезапному и случайному увлечению, чтобы затем длительно отталкиваться друг от друга со всей силой невыразимой муки и тоски. Его сердце разрывалось от мысли потерять ту, что вернула его к жизни. Она же видела только занимательное развлечение в этом приключении, опасность которого не превышала интереса и новизны. Что же удивительного в том, что в произведениях Шопена отразился только этот эпизод из всей его жизни во Франции? [186]После он свою жизнь делил на два периода. Он долго продолжал еще страдать в среде слишком реалистической, почти грубой, куда его завлекла слабая, слишком чувствительная его натура; а затем он уходил от настоящего в неощутимую область искусства, в воспоминания о ранней юности, о милой своей Польше, единственной, кого он обессмертил в своих песнопениях.
Человеческому существу, живущему жизнью себе подобных, не дано, однако, настолько отрешаться от своих текущих впечатлений, настолько отвлечься от жгучих каждодневных страданий, чтобы забыть в своих творениях всё, что он переживает, и петь лишь о том, что он пережил раньше. Вот почему мы охотно полагали бы, что в последние годы жизни Шопен был своего рода жертвой внутренних переживаний и угрызений, для него бессознательных, хотя он знал, что подобной болезнью был разрушен гений не одного великого поэта, не одного великого художника. Эти великие души, желая избавиться от муки земного своего ада, переносятся в мир, который они создают. Так поступил Мильтон, [187]так поступил Таосо, так поступил Камоэнс, так поступил Микеланджело и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу