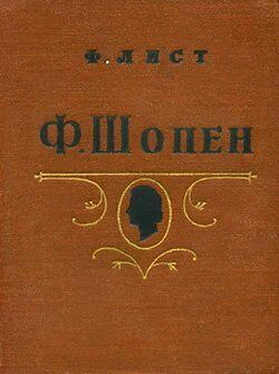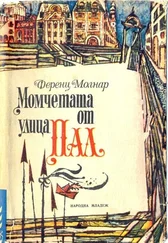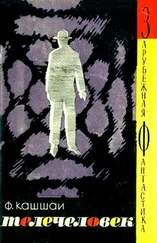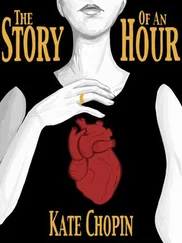И наконец – появляется бог Света! Его ослепительное чело украшено сияющей шевелюрой. Он медленно поднимается, но только что весь разоблачится, устремляется вперед, освобождается от всего, что его окружает, и тотчас вступает во владение всем небом, оставляя далеко за собою землю.
Дни, проведенные Шопеном на острове Майорке, оставили в его сердце воспоминание о восторгах, об экстазе, которые судьба дарит своим избранникам лишь раз в жизни. «Он жил не на земле, а в эмпирее золотистых облаков и благоуханий; казалось, он погрузился всем своим изысканным и богатым воображением в монолог с самим богом, и если порою, минуя лучезарную призму самозабвения, какой-нибудь инцидент омрачал общую картину маленького волшебного фонаря этого мирка, он испытывал ужасное потрясение, как если бы на прекрасном концерте старая крикунья вмешалась своим пронзительным голосом и вульгарным мотивом в божественные мысли великих мастеров». [182]
Впоследствии он говорил об этом периоде всегда с глубоко прочувствованной признательностью, как об одном из таких благодеяний, каких бывает достаточно для счастья целой жизни. Ему, впрочем, не казалось возможным когда-либо найти блаженство, где, поочередно, любовь женщины и блистание гения означают время подобно тем часам из цветов, которые Линней [183]соорудил в своей оранжерее в Упсале, указывавших время своим последовательным пробуждением, причем они издавали каждый раз всё новый запах и являли другие краски, по мере того как раскрывались их венчики разных форм.
Чудесные местности, которые посетили вместе поэтесса и музыкант, поразили больше ее воображение. Красоты природы производили на Шопена не такое ясное, хотя не менее сильное впечатление. Они трогали его сердце и настраивали его созвучно своему величию, но разум не испытывал потребности их анализировать, расценивать, классифицировать, давать им наименование. Его душа звучала в унисон с великолепными картинами природы, хотя он не мог бы тотчас же дать себе отчет в источнике своего впечатления. Как истый музыкант, он довольствовался извлечением, так сказать, экстракта чувства из наблюдаемой картины, видимо, не уделяя внимания стороне пластической, внешней живописности, не согласующейся с природой его искусства, относящегося к более одухотворенной сфере. И все-таки (явление, часто встречающееся у подобных натур) чем больше он отдалялся от времени и сцен, когда эмоция заслоняла его ощущения, как клубы ладана обволакивают кадильницу, тем больше ясности и рельефности, казалось, приобретали в его глазах картины этих мест, их очертания и расположение. В последующие годы он великолепно помнил и чарующе рассказывал об этом путешествии и жизни на Майорке, о событиях, ее отметивших, о связанных с нею анекдотах. Однако тогда, когда он был так преисполнен счастья, он описи ему не составлял!
Впрочем, зачем ему было взирать глазом наблюдателя на эти местности Испании, рамку его поэтического счастья? Разве не находил он их еще прекраснее, когда их описывало вдохновенное слово его спутницы? Он рассматривал эти дивные места сквозь призму ее страстного таланта, как сквозь красное стекло, когда все предметы, даже воздух, принимают пламенеющую окраску. Эта изумительная сиделка разве не была великой художницей? Редкое и чудесное сочетание! Когда природа наделяет женщину блистательным умом, глубоким чувством и самоотвержением – основанием ее неотразимой власти, вне которой она является только неразрешимой загадкой, – пламя воображения, в сочетании с ясной чистотой сердца, являет вновь, в другой сфере, чудесное зрелище греческого огня, носившегося, подобно пылающему пожару, над пучиной моря, не утопая, соединяя в блеске волн роскошные пурпурные краски с небесной прелестью лазури.
Но способен ли гений всегда на самое смиренное величие сердца, на безоговорочное отречение от прошлого и будущего, на мужественную и тайную жертвенность, на жертвы не временные и скоропреходящие, а постоянные и монотонные, которые дают право нежности называться самоотвержением? Сверхъестественная сила гения, лишенная сил божественных и сверхъестественных, разве не считает себя вправе иметь законные требования, а законная сила женщины не в том ли, что она отказывается от всяких личных и эгоистических требований? Царственный пурпур и огненные языки гения разве могут безопасно пылать на чистой лазури судьбы женщины, когда она считается лишь с земными радостями и не ждет никакой радости свыше, верит в себя – и не верит в ту любовь, которая сильнее смерти? Чтобы сочетать в одно целое почти сверхъестественным образом поразительную требовательность гения и обаятельную жертвенность безграничной и бесконечной привязанности, не надо ли подслушать в часы томительного ночного бдения, в дни слез и жертв некоторые из сверхчеловеческих тайн у ангельских хоров?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу