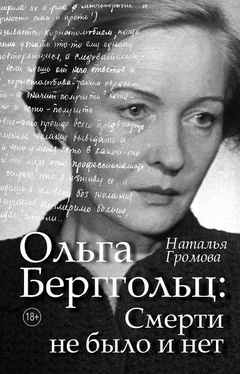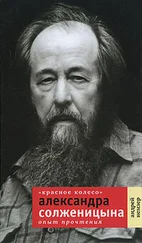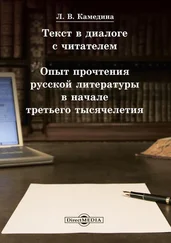"28 сентября 1947. Сижу – вся в благополучии и в репарациях. Перед глазами – репарационный абажур на лампе, под жопой – репарационная обивка на николаевском кресле, на окне – репарационная занавеска, как густая сеть… Благолепие! А за окном – ленинградский двор и крыши в снегу, белом и свежем, и в душе – ощущение Троицкой, той Троицкой, моей, легкая, тянущая тревога, ощущение и ожидание какой-то новизны, чего-то томительного, любовного, грустного и радостного одновременно. "И мертвенность души моей развей…"".
"Это стремление к старинной мебели в своей норе в сочетании с современными удобствами и современной мыслью, – объясняет она (запись от 1 января 1947 года), – есть, конечно, стремление – частное выражение общего стремления обособления от мира, не порывая связей с ним, но стягивая к себе, в обособленный свой мир, максимум всего того лучшего, духовного и материального и просто доставляющего удовольствие человеку, того, что обращено к человеку, а не против него…"
Но даже Ахматова, окруженная постоянной заботой Берггольц, мягко сетует Ольге на то, как изменились ее предпочтения в быту – от полного безразличия к комфорту до необоримой страсти к уютному семейному гнездышку. Берггольц пытается оправдаться перед собой: была тяжелая, голодная, безбытная жизнь – можно хотя бы немного пожить по-человечески? Но оказывается – нельзя. Потому что каждому известно: в любой момент придут – отнимут, конфискуют, арестуют.
Историк Михаил Рабинович, знакомый с Ольгой еще с юности, писал: "После войны я увидел Ольгу в другой ипостаси. Она вышла замуж за Макогоненко, была влюблена в него, казалась счастливой и увлеченно устраивала свою новую жизнь, вкладывая в это всю свою энергию… Общий с Юрой рабочий кабинет обставлен старой мебелью, шкафы, набитые книгами. Рядом маленькая столовая. Ольга все время хлопочет по хозяйству, что необычно для нее прежней. Она создавала семейный уют, которого не знала ни ранее, ни позднее.
Для друзей Ольга устраивала обеды. Помню, подавались какие-то деликатесы – рябчики, куропатки, разные закуски… Ольга очень этим гордилась. Как потом понял, в этом было не только стремление к созданию семейного очага, но бурная, неосознанная реакция на недавний голод. Да не только на страшный блокадный. Голод был вехой, хронологией жизни. Несколько лет спустя, сидя у нас, Ольга говорила, вспоминая что-то: "Это, кажется, было до первого голода, а может быть, и после второго, но, во всяком случае, до войны".
После какого-то обеда вчетвером отправились в кино смотреть тогдашний боевик "Сказание о земле Сибирской", одну из наиболее типичных картин сталинского времени: незамысловатый сюжет, сентиментальный и пошловатый, и лживое помпезное восхваление действительности. В хорошем настроении, слегка навеселе (как и остальные), Ольга острила, декламировала, смеялась… На Невском проспекте встретились нам два лейтенанта в синих фуражках с красными околышами, какие носили представители "органов". Ольга довольно громко пропела:
Африканский шимпанзе
Очень, очень страшный!
Половина жопы синий,
Половина – красный!
Ругая картину, вернулись из кино домой, пить кофе. В этот вечер Ольга много читала своих стихов, Бориса Корнилова и других поэтов. Кажется, тогда я впервые услышал ее частушку:
Под сводом родным голубого эфира
Гремит громовое "ура"!
Лети, голубь мира, лети, голубь мира!
Ни пуха тебе, ни пера!" [120] Рабинович М. Воспоминания долгой жизни. URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=1385 .
В новом доме много праздников, Ольга пьет наравне с мужчинами, и каждый раз ей кажется, что она в любой момент может остановиться.
Макогоненко начинает работать в университете. Он популярный преподаватель, студентки и аспирантки чуть ли не боготворят его. Но время от времени у него вырывается: "Мне тридцать пять лет, а я всего только "муж Берггольц"". И потихоньку в ее жизнь вползает ревность к неведомой Юриной жизни. Так было и в самом начале их отношений, но теперь в дополнение к этому еще и морок собраний и вынужденного притворства.
Ольга фиксирует, как синхронно все лгут:
"27 марта 1947. Раствор лжи был перенасыщен… Если б я стала выступать с теми мыслями, кот. у меня есть о морали, – с честными и высокими мыслями, со своими, – я была бы неприлична. Все равно что выйти перед ними голой. Теперь просто не принято высказывать ничего, кроме того, что уже указано ЦО, "Культурой" и т. д. Все, что помимо, – уже почти бунт. И все научились говорить ни о чем. С этой точки зрения наша пьеса, над которой мы бьемся и мучимся и кроваво ссоримся, – просто букет".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу