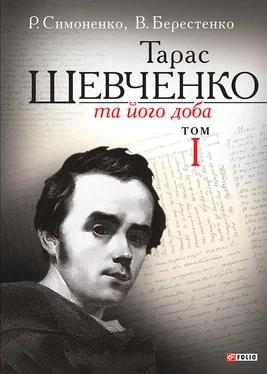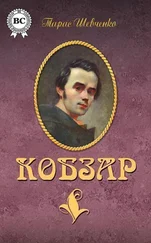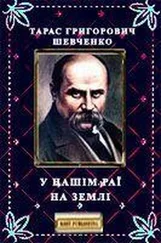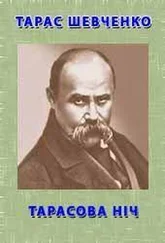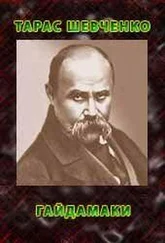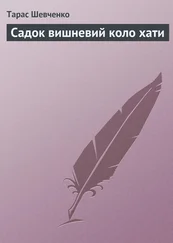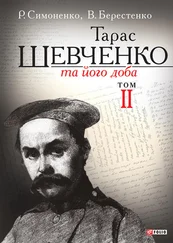Понад ставом увечері
Хитається очерет.
Дожидає сина мати
До досвіта вечерять.
Понад ставом увечері
Шепочеться осока.
Дожидає в темнім гаї
Дівчинонька козака.
Понад ставом вітер віє,
Лози нагинає;
Плаче мати одна в хаті,
А дівчина в гаї,
Поплакала чорнобрива,
Та й стала співати;
Поплакала стара мати,
Та й стала ридати.
І молилась, і ридала,
Кляла все на світі…
Ох, тяжкі ви, безталанні
У матері діти!
Только одно действие в природе – ветер. Под гнущиеся от ветра ветви и осоку – два горя: материнское в хате, невестино – в роще. Обе ждут, одна с ужином, другая с лаской, того, кому не суждено вернуться, сына и жениха-солдата, и обе знают, что он не придёт. Плачет мать, плачет невеста. Но дальше параллель исчезает. Невеста поплакала и – запела. А у матери плач перешёл в рыданья, в проклятия, в тяжкую формулу горя, за которой личное перерастает в общее. И так мало слов. И так незабываемо они сильны.
Узагальнююча сутність поезії Шевченка
Подлинное искусство и полнокровная жизнь языка начинаются именно там и тогда, где произведение художника дорастает до обобщающей силы. Без способности обобщить – нет настоящего поэта и писателя. И бессмертие Шевченка-поэта в том, что он выковал для народа язык, способный к глубоким, исторически правдивым, тончайшим обобщениям при помощи самых простых средств и несложных, казалось бы, выражений. Тарас Шевченко был не только лириком, а и рассказчиком в поэзии, он почти никогда не давал песню как одно лишь излиянье чувства без зрительного образа, а зрительный образ почти никогда не оставался нераскрытым. И этого мастерства движущейся, раскрывающейся, зримой картины он достигал средс твами, каких в народной поэзии не найти. Выходя из песенного ритма, его стих то словно следует во времени за движением предмета:
Горіло світло, погасало,
Погасло… —
(«Гайдамаки»),
то словно следует в пространстве за движением образа, например, за девушкой, собирающейся топиться в Днепре, с которою он сравнивает одинокую, забравшуюся на самый утёс хатёнку:
Над Трахтемировим високо
На кручі, ніби сирота,
Прийшла топитися… в глибокім
В Дніпрі широкому…
Стоїть одним-одна хатина… —
(«Сон – Гори мої високії…»),
то ведёт и развивает сразу два образа, – например, праздник на родине и праздник в одинокой пустынной ссылке:
…Завтра рано
Заревуть дзвіниці
В Україні; завтра рано
До церкви молитись
Підуть люде… Завтра ж рано
Завиє голодний
Звір в пустині, і повіє
Ураган холодний.
(«Не додому вночі йдучи…»)
Зразки майстерності геніального поета
Во всех случаях, как и почти всюду, следуя за движением своих образов, Шевченко пускает в ход так называемое «enjambement», занос за стихотворную строку части предложения, редко встречающийся в устной песне и удающийся лишь на вершинах поэзии, у гениальных поэтов.
Умеет он и не хуже Пушкина поэтически вводить в текст прозаизмы. Так, ему надо было ввести в стихи, да ещё в самом их начале, два тяжёлых, не украинских слова «университет» и «лазарет». Что же сделал Шевченко? «Университет» он просто выбросил:
Не вбгаю в віршу цього слова…
Но по смыслу, по неосуществлённой рифме, по указанию на его судьбу – он остаётся:
Тойді здоровий-прездоровий
Зробили з його лазарет…
(«У Вільні, городі преславнім…»)
Этот неназванный университет, из которого сделали огромный лазарет, помогает слову «лазарет» проскочить легко и почти незамеченно. В то же время Шевченко подготовляет к нему ухо читателя двумя эпитетами, глаголом, двумя местоимениями и предлогом, создаёт для него целое аллитерационное вступление: «здоровий-прездоровий зробили» и «цього – з його».
Заслуживает попасть во все поэтики мира и другой пример шевченковского мастерства. Ещё будучи юношей, в поэме «Перебендя» он смело выбрасывает из стиха необходимейшее имя существительное (без которого стихи должны бы показаться бессмысленными!), и выбрасывает так, что никто, решительно никто, читая, не замечает синтаксической невозможности этой фразы:
Орлом сизокрилим літає, ширяє,
Аж небо блакитне широкими б’є…
Певец «орлом сизокрылым летает, парит, аж синее небо широкими бьёт». Чем бьёт? Какими «широкими»? Читатель не чувствует, что пропущены «крылья», потому, что «крылья» даны в этом двустишии пять раз, не будучи названы ни разу, они даны и в эпитете орла (сизокрылый), и в собственном их эпитете (широкие) и в трёх глаголах (летает, парит, бьёт). Нужно поистине гениальное мастерство, чтоб такая выброска удалась в поэзии, как удалась, например, Пушкину его перестановка слов:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу