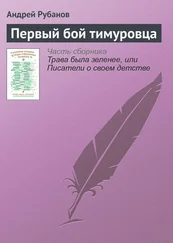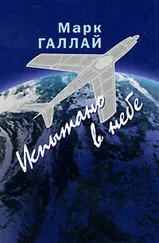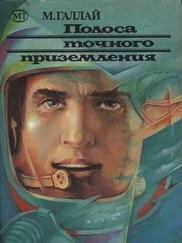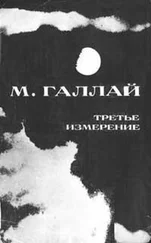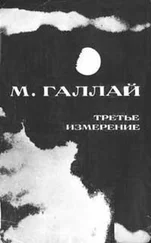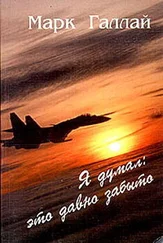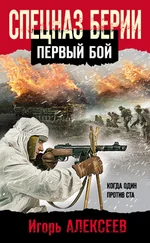У нас возникло немало претензий: хотелось и обзора пообширнее, и вооружения более мощного, и чтоб выхлопа не слепили, и чтоб горючего было хотя бы минут на двадцать побольше... Много чего хотелось!
И к чести нашей авиационной промышленности надо сказать, что довольно быстро - практически к весне сорок второго года - все это было реализовано.
Но и в сорок первом году, с самого начала войны, стало очевидно, что воевать на этих машинах в общем можно! И МиГ-3, и Як-1, и ЛаГГ-3, и Пе-2, и особенно Ил-2 прошли проверку боем и выдержали ее.
Я уже рассказывал о том, как воевали летчики Московской зоны ПВО.
Вскоре стали доходить до нас сведения и об успехах на фронте полков, сформированных из военных летчиков-испытателей.
Один из них - Юрий Александрович Антипов (ныне Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР) - поначалу, как и все мы, тоже считал, что хотя по скорости, особенно на больших высотах, МиГ-3 вне конкуренции, но маневренность у него не то чтобы очень... Очень скоро ему пришлось проверить свою точку зрения на практике.
В одном из первых же боев с "мессершмиттами" Антипова крепко зажали.
Немцев в воздухе - и над линией фронта, и в ближайших тылах - было в то трудное время значительно больше, чем наших самолетов. Отсюда почти всегда неравные воздушные бои. В отличие от противника наши летчики не уклонялись от схваток в невыгодных для себя условиях. Да и что им оставалось делать иначе пришлось бы уклоняться едва ли не от всех соприкосновений с противником. Это было очевидно, хотя и нерадостно. Естественное раздражение летчиков против сложившейся обстановки выливалось чаще всего в несколько неожиданном направлении: на головы журналистов, публиковавших в газетах очерки о неравных воздушных боях - "Трое против восемнадцати", "Семеро против двадцати пяти" и тому подобное. По существу, в этих очерках все было правильно. Раздражал тон - такой, будто нашим богатырям воздуха прямое наслаждение идти всемером против двадцати пяти - двадцать четыре им уже мало...
Через полгода после начала воздушной битвы за Москву уже в другом месте - на Калининском фронте - в аэродромной землянке собралась группа летчиков, ожидавших вылета. Сидели в теплых комбинезонах, и не только потому, что предстояло вскоре идти в воздух. Было холодно. Железная печурка грела плохо. Через узкое окошко, прорезанное над самым уровнем земли, у потолка землянки, еле светило сумрачным зимним светом. Разговор шел о бое, который летчики соседнего полка - Алкидов, Баклан и Селищев - дали втроем восемнадцати самолетам противника. Дали - и выиграли его: сбили несколько немецких машин, а главное, не допустили бомбежки нашего переднего края - это котировалось еще выше, чем лишние сбитые на боевом счету истребителя. Словом, бой был по всем статьям отличный. Но он был уже обсужден во всех подробностях несколько дней назад - сразу после того, как произошел. И текущие дела - удачи и неудачи, которые на войне сменяют друг друга очень быстро, - привлекли внимание к себе. Но вот пришла на фронт газета, где этот бой был описан, и разговоры о нем, вернее о статье, возобновились. В землянке пошли комментарии:
- Очень уж гладко все тут получается.
- Вроде им еще три-четыре "яка" только помешали бы!
А один из присутствовавших мечтательно произнес:
- Эх, ребята! Дожить бы нам до такого времени, чтобы шестеркой или восьмеркой зажать пару "мессеров", да дать им жизни, да загнать, сукиных детей, в землю! Вот это было бы дело... А то пишут и радуются: смотри-ка трое против восемнадцати. Ах, как хорошо!.. Тьфу!
- Не плюй в землянке, - сказал наставительно самый старший из нас. И сказал, конечно, правильно - не столько по соображениям поддержания должной чистоты и гигиены в помещении, сколько по причине очевидной беспочвенности мечтаний предыдущего оратора.
"Дожить бы до такого времени!"
Дожили далеко не все. Но такое время пришло! Когда наша армия подошла к Берлину так же близко, как стоял противник под Москвой в сорок первом году, советские самолеты - вопреки всем правилам военного времени - летали бомбить и штурмовать подступы к вражеской столице с зажженными аэронавигационными огнями на крыльях и хвостовом оперении. Почему? Очень просто: опасность противодействия противника была к тому времени меньше, чем опасность просто столкнуться в темноте со своими же самолетами - настолько много их участвовало в этой операции.
Соотношение сил в воздухе стало в точности таким, о котором мечтали летчики в той землянке суровой, холодной зимой сорок первого года.
Читать дальше