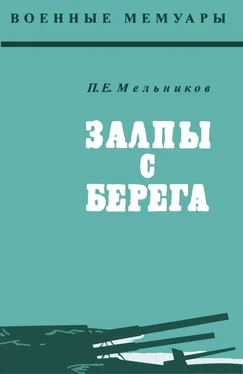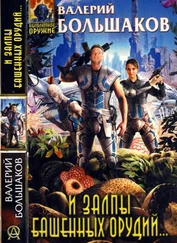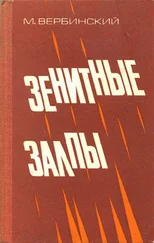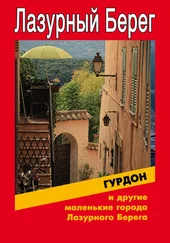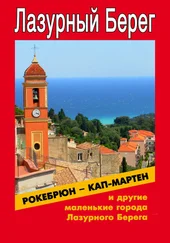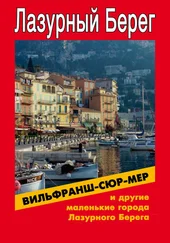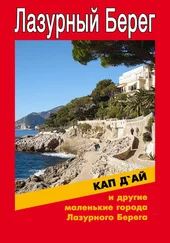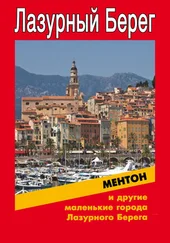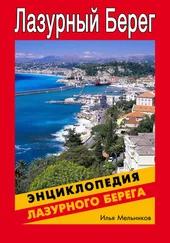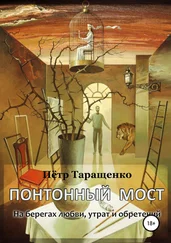Итак, слово «офицер» постепенно приобретало у нас право гражданства, так же как на смену «красноармейцам» и «краснофлотцам» шли «солдаты» и «матросы».
Как ни велико для нас было значение прорыва блокады, это все же не снимало всех трудностей, вызванных осадой. Эшелоны с продовольствием и вооружением от Жихарево до Шлиссельбурга шли под неприятельским огнем. Враг продолжал терзать Ленинград воздушными налетами и артиллерийскими обстрелами. Причем, после непродолжительного затишья, вызванного нашим противодействием, обстрелы вновь усилились. Немцы пополнили свой артиллерийский парк подвижными крупнокалиберными орудиями, централизовали управление всеми батареями, занятыми в обстрелах. Они распыляли внимание нашей разведки, ведя стрельбу то одной, то другой группой батарей, используя ложные вспышки и кочующие орудия. Они добились немалых успехов в маскировке. Ночью использовали беспламенные заряды.
Словом, произошло то, к чему нас готовил командующий фронтом.
Наибольшей интенсивности действия вражеских артиллеристов достигли летом. С конца июня снаряды разных калибров почти ежедневно стали падать на город. Но и мы не остались в долгу. К этому времени Ленинградский фронт и Балтийский флот не испытывали нужды в боеприпасах. Огневое мастерство наших командиров и бойцов достигло высокой степени совершенства. Выросло искусство командования в подготовке сосредоточенных ударов, в организации взаимодействия артиллерии и авиации.
Теперь мы обычно начинали стрельбу не с появлением вспышек на неприятельских батареях. Разведка наша за это время еще более усилилась. Еще теснее стали ее связи с общефлотской артразведкой и с разведывательной службой фронта. На форту были известны точные координаты немецких батарей, находившихся в пределах нашей досягаемости, которые использовались для обстрелов города. И вот периодически, по приказанию командира форта, на одну из таких целей обрушивался упреждающий удар.
Наша батарея стреляла не одна, а, как правило, совместно с 312-й и 211-й. Иногда в таком налете вместе с нами участвовали железнодорожные или войсковые батареи. После сигнала отбоя над перепаханной снарядами огневой позицией врага появлялась наша авиация. Когда она заканчивала свою работу, мы, если требовалось, повторяли огневой налет.
Такая тактика требовала большого расхода боеприпасов. Но она-то и была по-настоящему активной. Ею пользовались все артдивизионы и созданный позднее 3-й Ленинградский артиллерийский контрбатарейный корпус, где главную ударную силу составили железнодорожные береговые батареи. Об эффективности этого боевого приема свидетельствовал тот факт, что к осени противник был вынужден сократить обстрелы города в три раза.
Вклад Ижорского сектора в достижение этого результата можно охарактеризовать такой цифрой: за 1943 год его артиллерия провела около 550 стрельб на уничтожение и подавление вражеских батарей.
Как и в прошлом году, с наступлением лета перед нами была поставлена задача обеспечивать переходы кораблей в районе Красногорского рейда. И хотя задача была не новой, выполнение ее велось на совершенно ином организационном уровне. По сравнению с тем, как мы это делали теперь, прошлогодние стрельбы вспоминались удивительно примитивными, чуть ли не кустарными.
Поскольку проводка кораблей осуществлялась не часто и о ней мы оповещались заблаговременно, перед каждой такой операцией проводилась тщательная подготовительная работа. От постов сопряженного наблюдения требовали получить по нескольку засечек на каждую активную неприятельскую батарею. Командир дивизиона проводил с офицерами специальные занятия и тренировки. От нас он требовал безошибочного знания координат и всех характеристик целей, готовности не мешкая подготовить исходные данные и управлять огнем любым из приемлемых способов. Его излюбленной методой была постановка неожиданных вводных, и мерилом подготовленности офицера к решению задачи считались правильность и быстрота ответных команд.
Потом командиры батарей устраивали совместные тренировки своих командных пунктов и корректировочных постов. На тренировках отрабатывались организация управления огнем, связь, быстрота и точность введения корректур. Помню, как в июне на одном из таких учений у нас побывал начальник артиллерии флота контр-адмирал Иван Иванович Грен.
В те дни мы готовились к обеспечению перехода подводных лодок, в том числе и нашей старой знакомой «Щ-406». Выделенные для этой цели силы должны были накануне перехода уничтожить активные неприятельские батареи на северном берегу залива. К участию в боевых действиях привлекались артиллерия Красной Горки и Серой Лошади, 180-миллиметровая железнодорожная батарея с острова Котлин, а также бомбардировочная и корректировочная авиация флота. Общее руководство возлагалось на контр-адмирала Грена.
Читать дальше