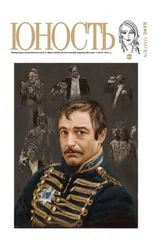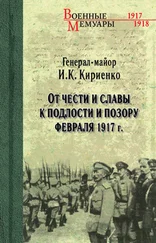Во время защиты дипломных проектов в институте дирекция приняла решение оставить меня на преподавательской работе. Я вернулся с соревнований и начал осваивать еще одну новую профессию — шестую или седьмую. Вроде бы получалось. Но выступление в Харькове уже погнало свои волны. В Омск начались звонки — из Тулы, из Ленинграда, из Москвы. Для тренеров не было секретом, что у меня ни кола, ни двора, что живу в студенческом общежитии, да еще, став преподавателем, вынужден переехать вообще в какую-то кладовку, очень холодную. Тула предлагала двухкомнатную квартиру, к ее предложениям присоединилась Россия — тогда на всесоюзных спартакиадах Россия, Москва и Ленинград выступали отдельными командами. Ленинград прелагал однокомнатную квартиру. Но настойчивее всех была Москва. Клуб ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии, и уговаривал — жилье и прописка в Москве гарантированы, и угрожал — ты же офицер запаса, не поедешь к нам — восстановим в кадрах, загоним куда-нибудь подальше, все равно выступать не дадим. Я отговаривался, но однажды ночью, когда мои волосы во время сна примерзли к какой-то трубе, проходившей через кладовку, я решился. В конце концов что я терял…
Весь мой скарб, с которым я явился в столицу, умещался в рюкзаке — спортивная форма, пара рубашек, несколько книг. Костюм у меня был один — он был на мне, пальто — одно, тоже на мне, ботинки резервные, вспоминаю, были. Так вот 29 декабря 1960 года я и объявился на Казанском вокзале. Армейцы встретили меня и, надо сказать, выполнили все свои обещания — тогдашний министр обороны маршал Малиновский из своего лимита выделил мне и прописку и комнату. Я превратился в профессионального спортсмена.
Тренировки стали очень объемными. Зимой — лыжи, через день 50–70 километров, вечером — баскетбол или штанга. Летом — с утра шоссе 120–180 километров, вечером — трек, скоростные тренировки, уж никак не меньше 50 верст намотаешь. После таких нагрузок не то что читать, шевелиться не хочется. Но постепенно втянулся, заставил себя, снова стал «глотать» книжки.
В Москве я наконец научился читать системно, оценивать прочитанное достаточно профессионально, а не по правилу «интересно — не интересно». Один мой спортивный приятель пригласил однажды к себе домой, жили они тогда на Смоленской площади, в доме, где находится знаменитый на всю Москву «Гастроном». Познакомил с отцом, братом, матерью, с двумя громадными собаками — боксерами, точнее, боксершами. Его мать немедленно завела со мной беседу о… Шекспире.
Прекрасный человек была Евгения Яковлевна Домбровская! В ее семье я надолго нашел свой второй дом, дневал и ночевал там. Трехкомнатная квартира, весьма по нынешним меркам тесная, была забита шкафами с книгами. Филолог, доцент педагогического института, Евгения Яковлевна, видимо, нашла во мне благодарную аудиторию. По сути дела, я прослушал у нее несколько курсов западной литературы — она прекрасно знала английскую, австралийскую, американскую — и США, и Канады — литературу да и немцев с французами не обходила вниманием. Оба ее сына, Сережа и Валерий, не пошли по ее стопам, стали инженерами, поэтому она весь свой просветительский дар обратила на меня да еще разрешила брать из шкафов любую книгу. Когда же оказалось, что я все основное освоил, Евгения Яковлевна пригласила Ольгу Штейнберг, переводчицу, лингвиста, и я получил доступ к еще одной библиотеке — отец Ольги, профессор МГУ Штейнберг, собирал ее всю жизнь. Там я впервые прочел Н. Гумилева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, дивные антологии отечественной поэзии 20-х годов, П. Элюара, Э. Верхарна, нашего М. Волошина, познакомился с философией В. Соловьева и от книг Тейлора о первобытных религиях перебрался к Фрейду. Там же я совершил личное открытие «самиздата», посмотрел на московскую литературную тусовку, собиравшуюся в квартире Штейнбергов на улице Семашко. Значение моих знакомств, как книжных, так и личных, станет понятнее, если отметить, что шел 1962 год, хрущевская «оттепель» закончилась, никто уже не читал стихов ночами у памятника Маяковскому, вечера поэзии во Дворце спорта и в Политехническом музее еще проводились, но скоро прекратились и они. Да и самому Никите Сергеевичу оставалось недолго ждать октября 1964 года.
Евгения Яковлевна продолжала опекать меня. Будучи не очень высокого мнения о спорте, она старалась пристроить меня на преподавательскую работу в какой-нибудь технический вуз. Но я думал уже о другом. Вон он — рукой подать — Московский университет. Пойти туда на факультет журналистики было моей давней тайной мечтой. Тайной, потому что никаких возможностей реализовать ее я не видел. Нужно было еще открыть для себя этот мир, примериться к нему, понять, можешь ты там что-то сделать или это просто обычное российское «вот если бы». Теперь можно было попробовать.
Читать дальше
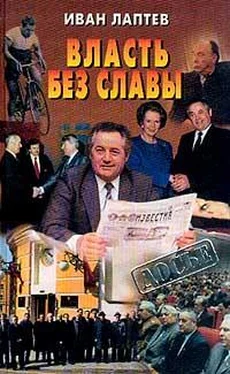
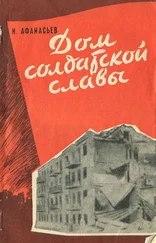
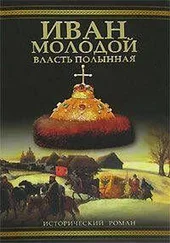
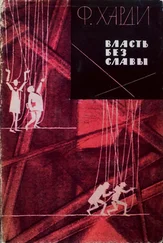
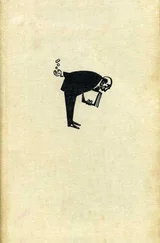
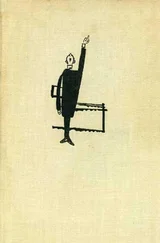
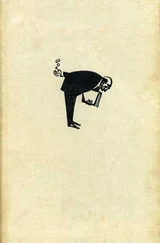

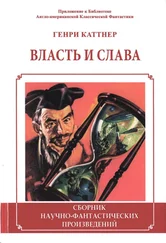
![Генри Каттнер - Власть и слава [сборник]](/books/384991/genri-kattner-vlast-i-slava-sbornik-thumb.webp)