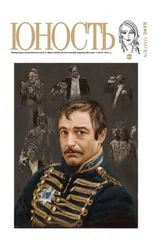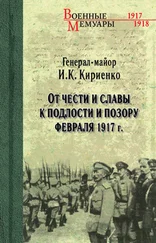Идиотизм нашей власти тех времен ярче всего проявлялся как раз в подходе к этому огороду. Положено было на дом 34 сотки. И больше — ни одного квадратного метра. Вокруг лежали пустоши, примыкавшие к огородам поля колхоз уже не мог обрабатывать, но сажать там картошку для себя категорически запрещалось. То же было и с домашним скотом — одна корова и одна нетель, три овцы, о свиньях почему-то никто не упоминал, но в деревне их и так не держали. Наказание за нарушения было жестоким — лишнюю скотину просто уводили со двора. Во время войны и после для этого находилось достаточно исполнителей. А ведь еще были обязательные сдачи государству молока, мяса, той же картошки. Хлеб в последние годы войны и до самой смерти Сталина в 1953 году просто забирали весь. Приезжали два-три человека в фуражках, собирали собрание — и бедные наши матери сами везли весь урожай в район, не оставляя в деревне ни зернышка. По весне колхозу выдавался семенной фонд. Чуть весна запаздывала, мы начинали пухнуть от голода. Мать зарабатывала за год свыше 800 трудодней, но ничем они не отоваривались, ни натурой, ни деньгами. Один раз выдали на трудодни два мешка овсюга — это сорняк, растущий на хлебных полях, напоминающий овес, только серо-черный. Есть его нельзя. Съели.
Словно почувствовав опасность, идущую от голодных людей, из лесов исчезла вся живность. Вслед за ней откочевали куда-то и волки. Рыба в многочисленных озерах вокруг деревни была представлена карасями, которые почему-то там до нормальных размеров не вырастали. Мы научились вязать сети, но ниток было мало, а «серпов», маленьких пресноводных креветок или, может быть, похожих на них существ много — они за одну ночь могли сожрать хлопчатобумажную сеть. Впрочем, карасей мы все-таки выловили почти полностью и везде.
Удивительно, что при таком образе жизни никто из нас не болел. Прямо в полях и лесах мы поедали, что удавалось найти, пили воду из любой ямки на болотах, выдернув из грядки морковку, обтирали ее ботвой и тут же ели. Ягоды — тем более. Полевая клубника, брусника, голубика, дикая смородина — все потреблялось сразу, только клюкву надо было выдерживать, она дозревала уже дома. Сыроежки всех видов. Воду из озера никогда не кипятили, хотя в нем же и купались, и поили скот, и бани стояли на его берегу. Видно, сама природа приходила к нам на помощь. Только уже в 1948 году, когда в наших местах распространилась ондатра, мы начали болеть туляремией.
Места наши были столь благословенны, что после войны по деревням стали развозить «врагов народа». После знакомства с «Архипелагом ГУЛАГ» А. И. Солженицына можно предположить, что размещали у нас «доходяг», то есть лагерников, которые работать уже не могли да и передвигались еле-еле. Но — и это надо подчеркнуть — грамотных доходяг, очевидно, по причине полной деревенской темноты. В Сладкое привезли инженера из Ленинграда по фамилии Паркцеп, которая сразу же была отредактирована в Прицепа. Босой, стриженый, в старом солдатском обмундировании, без ремня, без шапки или фуражки, он сидел на телеге, на охапке сена. Его назначили в деревню счетоводом, женщины сшили ему «обутки», так назывались у нас кожаные чуни, кто-то дал шапку, кто-то ремень. Так он и ходил жарким летом — в шапке, в «обутках», которые каждый день засыхали до каменной твердости и надо было их размачивать, чтобы снять. Кормили и жалели его всей деревней, а он для всех писал письма, заявления, жалобы. Видимо, перестарался — через год его куда-то увезли.
Но вернусь к школе, именно она определила мою судьбу. В ней уже учились старшая сестра и старший брат. Пока они осваивали «письмо», как тогда назывались уроки правописания, и правила арифметики, я все это освоил тоже. И не дождавшись, когда перевалю через рубеж 7 лет, самостоятельно отправился в «науку» в 1941 году.
В школе были два преподавателя, супружеская пара — Анна Варфоломеевна и Иван Григорьевич. Потом его тоже призовут в армию, он вернется после войны начальником районного отдела КГБ, а мы узнаем об этом, когда он лично доставит в Сладкое «врага народа» Паркцепа. Анна Варфоломеевна преподавала все предметы в 1—2-м классах, Иван Григорьевич — в 3—4-м. При этом все четыре класса занимались в одной комнате, всего-то было, как я упомянул уже, 13 учеников. Забегая вперед, скажу, что окончил школу я один, остальные сочли, что 2–3 класса — вполне достаточный университет.
Учеба в школе оказалась для меня забавой, от брата и сестры я уже усвоил программу первых двух классов. А позже выяснилось, что я просто запоминаю все, что читаю, и очень многое из того, что слышу. Сменившая в 3-м классе первых учителей Вера Петровна, фамилию, к сожалению, никогда не знал, как и фамилию ее предшественников, заметила это и отдала мне единственный в школе комплект учебников за четыре класса. Я их прочитал и… запомнил, причем мне было все равно, что запоминать — учебник ли это географии или арифметики. И мы с Верой Петровной отправились сдавать экзамены в соседнее село, в десяти километрах от нас, которое в противовес Сладкому называлось Горькое. Там была семилетняя школа и только там сдавали экзамены за четвертый класс учащиеся из нескольких окрестных сел. Немаловажно заметить, что перед каждым экзаменом (а тогда за начальную школу сдавали 6 предметов и свидетельство об ее окончании считалось серьезным документом) нас кормили. Надо было только приходить со своей ложкой. В день экзамена я вскакивал пораньше, ложку в карман — и чесал 10 верст. Босиком, конечно, летом обуви мы не носили. Да и зимой-то не всегда.
Читать дальше
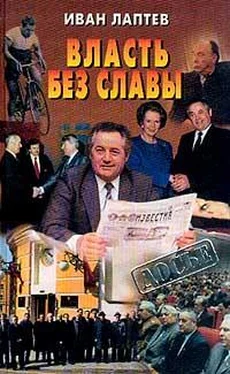
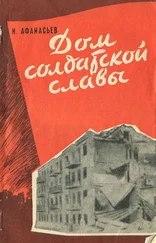
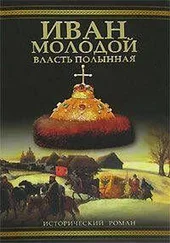
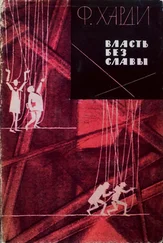
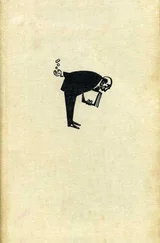
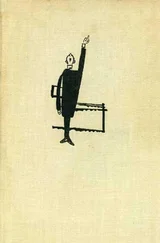
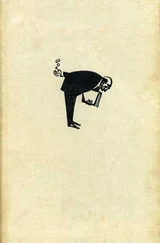

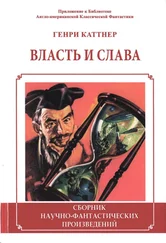
![Генри Каттнер - Власть и слава [сборник]](/books/384991/genri-kattner-vlast-i-slava-sbornik-thumb.webp)