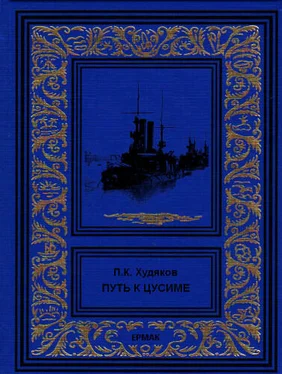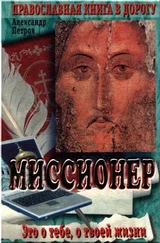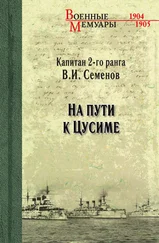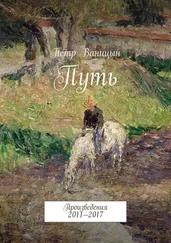Для 2-го издания книги этот факт был сообщен мне очевидцем офицером через одного из наших товарищей. П. X.
См. исповедь Небогатова в "Нов. Bp.", 1906, № 10.745, от 11 февр.
На вопрос председателя суда в процессе Небогатова о том, как приняла команда слова адмирала о необходимости сдачи, матросы-свидетели отвечали: "команда плакала"…
Кроме Небогатова, приказом от 22 августа 1905 г., были исключены из службы в морском ведомстве и все командиры броненосцев отряда Небогатова, вопреки существующим узаконениям, без приговора суда. П. X.
Эта яхта предназначалась для наместника; она вся из дерева, и только какая-то счастливая случайность спасла ее от гибели. На ней — роскошное адмиральское помещение, занимающее половину корабля, прелестная гостиная, столовая, кабинет, спальни, помещение для штаба и доктора, винный погреб. Вооружение яхты ничтожное (четыре З-дюймовых пушки); и от первого же попавшего в нее крупного снаряда корабль представлял бы собой огромный пылающий костер ("Рус. Слово", 1905, № 141).
Это — те самые орудия, о которых выше (в главе IV) говорится, что орудия поставлены новые, а размеры портов для них оставлены, как были при старых и дальнобойность орудий нельзя было поэтому использовать… П. X.
Еще яснее эта мысль была выражена в "Вестн. Евр.", (1906 г., № 11, стр. 471): — Солдат должен сражаться до последней капли крови, — в этом он клялся, присягая на верность службы, в этом его долг. На этом именно положении и построено действующее законодательство. Оно имело полное реальное основание прежде, а теперь не имеет его более: прежде главной боевой силой был сам человек, a теперь — только орудия и механизмы. Теперь морской бой нередко начинается и кончается на расстоянии 10 верст между противниками. Если у одного из них орудия посылают снаряды на расстояние 10 верст и корабли его имеют 20 узлов хода в час, а у другого противника дальность стрельбы только 9 1/2 верст и скорость хода кораблей только 15 верст, то первый из этих двух противников расстреляет и потопит 2-го, как бы сильна духом ни была команда у этого второго. И этот исход боя можно вычислить с математической точностью гораздо раньше "последней капли крови". А потому и факт сдачи корабля в современном морском бою требует для себя оценки уже по совершенно другому масштабу, а не прежнему.
"Морск. Сборн", 1907 г. № 2.
В № 302 "Рус. Вед." за 1906 г. была помещена следующая статья:
"Вся атмосфера, из которой возникло дело Небогатова, была пропитана легкомыслием, халатностью, распущенностью и, как ни страшно это слово, преступлением. Мы говорим не о том преступлении, за которое судился адм. Небогатов и за которое он номинально приговорен к смерти, как номинально были приговорены к ней спутники адм. Рожественского, отделавшиеся очень легким наказанием. Мы говорим о всей обстановке отправления эскадр Рожественского и Небогатова от Либавы до Цусимы, о том, что предшествовало отправлению и сопровождало его. Если бы надо было еще доказывать, что режим мрака и молчания неизбежно выращивает ложь, преступность и не создает почвы для проявления душевного величия, достаточно было бы для этого взять в качестве одного из самых веских доказательств Небогатовское дело. В каком состоянии были наши военные суда, наши орудия, наша морская служба и умелость обращаться с орудиями перед отправлением в воды Тихого океана, об этом достаточно рассказали и подсудимые, и свидетели; об этом ярко свидетельствует и напечатанное в газетах письмо адм. Бирилева. Где кончалось легкомыслие, с какого пункта начиналось преступление?.. И в полном соответствии с добросовестностью и обдуманностью строивших, снаряжавших, отправлявших было отношение к делу и у самих отправляемых. Корабли негодны, — ясно; орудия стары, — это бросается в глаза; снарядов недостаточно и для обучения, и для боя с неприятелем, — этого не надо доказывать. И тем не менее идут в бой… В этом можно бы видеть своеобразное понимание долга, своего рода величие духа, готовность погибнуть ввиду очевидной негодности того строя, для которого служил и в силу которого верил. Но негодный строй, опирающийся на легкомыслие, ложь, хищение, не может создать в начальниках даже такого величия духа. Нам незачем вспоминать цусимскую историю, не только позорную страницу в истории нашего флота, но и печальное свидетельство о том, какого рода слуг отечества создает старый порядок. Они связаны с ним нерасторжимыми узами, и нельзя осудить одних, не призвав к суду всего создавшего их строя. Виноваты не отдельные лица, виновата вся система; и если бы адм. Небогатов был приговорен к смерти не номинально только, едва ли нашлись бы люди, которые признали бы подобный приговор справедливым… Цусимская эпопея пришла к концу. О ней можно было бы не вспоминать больше, если бы этот финал был концом старых злоупотреблений и старого порядка. Но на перегнившей почве уже поднимаются новые крепкие отростки прежних сорных растений. Мы видим уже ясно очертившиеся фигуры новых крупных хищников, но не видим мер, направленных к уничтожению старого; и над будущим России снова поднимаются силуэты прежних темных сил, которые привели нас к Цусиме"… [ Дополнение, сделанное Петром Кондратьевичем в 10 главе второго издания этой книги, уже после набора основного текста ].
Читать дальше