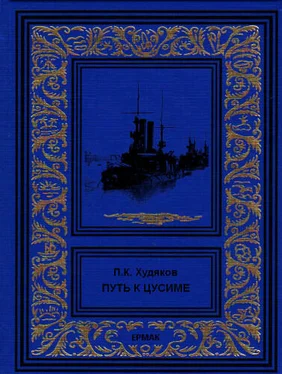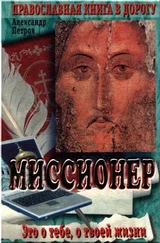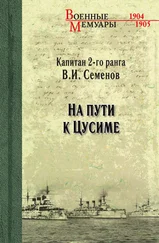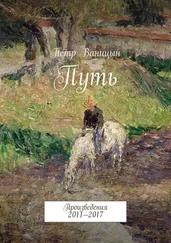По окончании войны комитет государственной обороны принялся за разрешение вопроса о создании канонерской флотилии на р. Амур и остановился на мысли о постройке 10–12 канонерских плоскодонных лодок; водоизмещение их должно быть в 900 тонн, артиллерия их должна состоять из двух шестидюймовых орудий, двух пятидюймовых орудий и нескольких скорострелок. И в печати, и в заседаниях "морского союза" было выяснено, что при нынешних условиях морской техники значение этих речных канонерок в боевом отношении будет совершенно ничтожно, что тратить на создание этих игрушек сумму около 20 миллионов рублей не следует; и там, где идет дело о сдаче заказа на такую кругленькую сумму, торопиться с подписанием контракта тоже не следует. Но уж очень интересно было сдать заказ; с этим делом торопились, и готовилось подписание контракта; наметили уже и завод (Путиловский завод), который возьмет… дороже всех, который… не имел тогда и приспособлений, необходимых для выполнения этого заказа. Но тут всполошились конкуренты и быстро подали свои заявления с разницей в пользу казны на сумму около семи миллионов рублей . "Совет министров, узнав о комбинации с Путиловским заводом, был чрезвычайно смущен… Один из министров даже назвал это дело "новой лидвалиадой", и только по настоянию председателя совета министров контракт с Путиловским заводом не был оформлен" (см. "Русск. Ведом.", 1907 г., №№ 64 и 65 от 20 и 21 марта).
Военное министерство настаивало на необходимости закрыть доступ в Порт-Артур иностранным судам; а между тем, согласно принятым на себя международным обязательствам, мы должны были, приобретя порт в китайских водах, сделать его открытым для судов всех наций. Постройка коммерческого порта наряду с военным была таким образом обязательной; и генерал Куропаткин, в бытность военным министром, ни только не возражал против сооружения вообще коммерческого порта, но и вполне одобрял сделанный для него выбор места. (Из заявления, сделанного в печати графом Витте во время судебного процесса по поводу сдачи П.-Артурской крепости).
По окончании войны, когда лучшая часть острова отошла к Японии и когда ссыльная роль его сама собой окончилась, те копи этого острова, которые остались за Россией, сейчас же сделались предметом вожделения иностранных капиталистов; они нашли их и удобным и выгодным эксплуатировать. По этому поводу в газете "Голос Правды", в январе 1907 г. писалось следующее:
"Остров Сахалин, который всегда являлся черным пятном в годовом бюджете — сначала министерства внутренних дел, а потом министерства юстиции, имеет две каменноугольные копи — владимирскую и дуэсскую. Обе эти копи уже в течении многих лет разрабатывались ссыльно-каторжными, и в годовых отчетах сахалинских губернаторов постоянно упоминалось и доказывалось, что копи эти имеют исключительно характер места для работ, как исправительные и карательные меры, но было бы странно придавать им какое-нибудь экономическое значение. С этим взглядом совершенно свыклись. Но в настоящее время дело разом вдруг меняется: бывший сахалинский губернатор, ген. Ляпунов, находящийся под судом за сдачу Сахалина Японцам, и представитель немецкой фирмы Артур Коппель подали в горный департамент прошение о том, чтобы им отдали в аренду упомянутые выше копи на 36 лет. Об этом же хлопотали после войны и русские предприниматели; но, благодаря стараниям и связям Ляпунова, копи отданы в аренду иностранцам.
Разработка этих шахт теперь уже началась; и надо думать, что углем из этих именно шахт и будет снабжаться на Востоке наш тихоокеанский флот: при разрешении этого вопроса в январе 1908 г. фирма Коппель между всеми другими соискателями явилась одним из главных конкурентов; и за нее опять хлопочет все тот же генерал Ляпунов, находящийся под судом…
Одно из таких сообщений кратко гласило, напр., следующее: — "Переведено главному инженеру сорок один миллион рублей…" На какие надобности и как были истрачены эти миллионы, это так и осталось во мраке (см. "Утро России", 1907 г., № 9 от 26 сентября).
За последнюю четверть века перед войной с Японией на флот было израсходовано в России более полтора миллиарда рублей , но израсходовано без определенного плана, который оправдывался бы жизненными задачами государства. С 80-х годов по 1895 г. нашей задачей было достижение господства в Балтийском море , обеспечение защиты своих берегов; а когда это было достигнуто, тогда у нас искусственно была выдвинута на первый план новая задача — образование Тихоокеанской эскадры и создание морского владычества России на Д. Востоке . С 1895 г. начали смотреть у нас на Балтийский флот, как на простой резерв для Тихоокеанской эскадры, и оставляли иногда в Балтийском море такой слабый состав современных боевых судов, которого было бы недостаточно для защиты наших берегов в случае войны не только с Германией, но даже и со Швецией… На Черном море у нас также еще нет и до сих пор планомерно законченного судостроительства. Программы морского судостроения в России перед войной все время менялись, напоминая собой известную погоню "за двумя зайцами"; мы сделали усовершенствование, только увеличив число "зайцев"… Создавая свой военный флот, страна была вынуждена нести на себе решительно непосильное ей бремя, а для самозащиты ей приходилось довольствоваться главным образом содействием дипломатии… [ Дополнение, сделанное Петром Кондратьевичем в 10 главе второго издания этой книги, уже после набора основного текста ].
Читать дальше