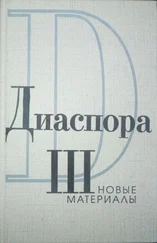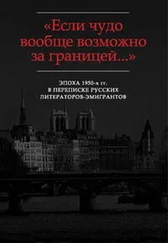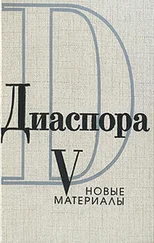Закроем, по давнему, вечно мне памятному совету Льва Шестова, книгу, постараемся забыть отдельные стихи Георгия Иванова, отдельные его строки, — что останется от них в памяти? Не колеблясь, я скажу — свет, да и не это ли, не именно ли свет, в сознании задерживающийся, есть основное свойство, основной признак всякого творчества, достойного имени поэзии? У Георгия Иванова это удивительно. Насмешки, намеки, умышленно смешанные с поэтическими условностями, куски самой низменной, повседневной обывательщины, вроде какого-нибудь «вчерашнего пирожка», грязь вперемежку с нежностью, грусть, переходящая в издевательство, а надо всем этим — тихое, таинственное, немеркнущее сияние, будто оттуда, сверху, дается этому человеческому крушению смысл, которого человек сам не в силах был бы найти… Кстати, если когда-нибудь стихи Георгия Иванова дойдут в советскую Россию, как будут они там восприняты? Нет сомнения, что возбудят они страстный и длительный интерес, тревожно-напряженное внимание, сколько бы критики ни бились над разъяснением их «упадочного» характера. У Ник. Тихонова есть, помнится, строка, если не ошибаюсь, относящаяся к англичанам: «…И дубовых наплодят ребят». В России сейчас массовое производство «дубовых ребят» стало целью, идеалом и объектом всех государственных усилий, но едва ли, едва ли цель эта окажется полностью достигнутой. Будем надеяться, во всяком случае, что в нашей России, где должны же все-таки остаться «русские мальчики» карамазовской складки, она полностью недостижима и что после бойких и ловких од в честь какой-нибудь «доярки, успешно перевыполнившей норму», ивановские стихи заставят этих «мальчиков» встрепенуться: так вот куда может уйти поэзия, вот что может произойти в душе человека? Но это — другая, да и большая тема, которая увела бы нас от поэзии Георгия Иванова далеко.
Останемся с ней: исчерпать ее трудно, сказать о ней все, что сказать следовало бы, тоже нелегко – отчасти потому, что в попытках анализа мысль цепляется за мысль почти до бесконечности. «Господи, воззвах к Тебе…» — может быть, именно в этом сущность ивановской поэзии? Не знаю. Слов таких у Иванова не найти, а если бы они случайно у него под пером и мелькнули, рядом оказалась бы, конечно, усмешка, капля серной кислоты «во избежание недоразумений» и слишком благонамеренных выводов. От выводов ивановская поэзия ускользает. Но откуда же свет? И если бы его не было, могла ли бы эта поэзия не только восхищать и прельщать своим словесным блеском, но и волновать, мучить, обещать, в самой безнадежности таить и внушать надежду – одним словом, «царить»?
Новое русское слово. 1958. 2 ноября. № 16663. С.8
Я был у него в Йере, маленьком городке на южном побережье Франции, около Тулона, недели за две – за три до его смерти. Было ясно с первого взгляда, что это конец… Но казалось — конец, который может еще длиться, с перемежающимися улучшениями и ухудшениями, как почти всегда бывает при последних, смертельных болезнях. Конец подлинный, окончательный настал, однако, совсем скоро.
Чем Георгий Иванов был болен? Ответить трудно, и враги сами отвечали уклончиво и неопределенно. Вполне возможно, что свела его в могилу какая-нибудь скрытая, ускользающая от диагноза болезнь. Но организм его был настолько истощен, что мог он умереть и от убыли жизненных сил, от отсутствия всякого сопротивления недугу, который для другого опасен не был бы. «В светильнике нет больше масла» — по обычному в таких случаях сравнению. Действительно, гореть, светиться — в чисто физическом смысле — было уже нечему. Он говорил с трудом, держался на ногах еще труднее, а худ был так, что сам себя сравнивал с бухенвальдскими снимками. Горестно насмешлив оставался он до последнего дня. Георгий Иванов знал, что умирает. Но ему хотелось жить, по-видимому, страстно хотелось, и в ответ на стереотипно лживые успокоительные уверения, «у тебя совсем не плохой вид», «да ты еще всех нас переживешь», кто же этих слов не знает? — улыбался доверчиво и, я думаю, без притворства. Вероятно, мелькала у него мысль: «пожалуй, я и в самом деле не безнадежно болен». Но тоскуя об уходящей жизни, он — насколько могу сулить — смерти не боялся, — хотя бы потому, что смерть была в его представлении абсолютным, абсолютно пустым «ничто», черной дырой. Бояться можно того, что поддастся воображению: здесь было одно только отсутствие, пожалуй, даже Отсутствие с большой буквы.
Читать дальше