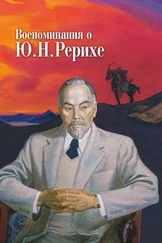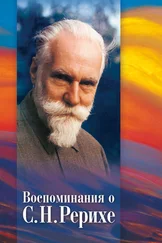— А теперь послушай, как умею кричать я.
И он издает мощный крик, кажется, на все Переделкино. Мальчишку это задевает, и тогда он тоже кричит — так, что жена Асмуса незаметно закрывает уши. Но дети все хотят кричать («Корней Иванович! И я! И я!»). Чуковский их выстраивает, каждый кричит по очереди, а затем он предлагает всем крикнуть разом, изо всех сил, вот так! Асмусы переносят этот невообразимый ор как истинные стоики.
Но Корнею Ивановичу и этого мало. Картинно обернувшись ко мне, он громогласно заявляет:
— Пойдем отсюда, из этого сумасшедшего дома!
Он построил в Переделкине библиотеку для детей и каждого из знакомых просит приносить книги. Я приезжаю с детскими книжками, он рассматривает их, благодарит, а потом замечает:
— Откровенно говоря, от вас я ожидал большего размаха.
Я досадую на себя, что не привез книг побольше, и в следующий раз привожу удвоенную порцию. Как пишут в ремарках драматурги, та же игра:
— И это все?! Спасибо, но я надеялся, что вы привезете что-нибудь поинтереснее. Вы, наверное, просто решили освободиться от книжек, которые девать некуда. Ну что ж, и на этом спасибо.
И, как я ни стараюсь, каждый раз он благодарит и поддразнивает.
Как-то я услышал, что в комнате для игр его новой библиотеки надо чем-нибудь покрыть пол. Вот тут-то, решил я, наконец-то я смогу поразить Корнея Ивановича. У нас дома есть вьетнамская циновка как раз по размеру библиотечной комнаты. Мы с сыном на лыжах везем длинную скатанную циновку. Расстилаем, родные Чуковского выражают одобрение, посылают за ним. Вот он идет, высокий, в серой каракулевой шапке, в пальто и в валенках. Увидев расстеленную циновку, он приходит в такой восторг, что ложится на пол и начинает кататься, приговаривая что-то вроде слов Мойдодыра: наконец-то ты, мол, Мойдодыру угодил! Никогда не забуду, как основоположник детской литературы катался по полу.
Затем, наигравшись и натешившись вволю, он встает — легко, совсем не как старик.
— Я верил в вас. Даже когда вы приносили мне какие-то жалкие, завалящие книжонки, я знал, что в конце концов вы расщедритесь.
В переделкинском Доме творчества подобралась одна довольно шумная компания. Работали мало, больше «общались»: громко обсуждали литературные дела, кого-то возносили, кого-то выносили и т. д. Как-то возвращается эта компания с прогулки, и все наперебой рассказывают:
— Как мы замечательно общались с Корнеем Ивановичем! Как он рассказывал! Какой веселый! А потом вдруг как припустится бежать — даже не по дорожке, а прямо по полю, по бороздам. Такой забавник. Сколько в нем сил, энергии, юмора!
Спустя два часа встречаю Корнея Ивановича. То же в его изложении:
— Сегодня гулял и наткнулся на… (называет ту же литкомпанию). Какие унылые люди… Я сперва начал было им что-то рассказывать, а потом думаю — к чему этот бисер? Взял и убежал — прямо по полю, по бороздам. Ну, невмоготу!
Корнея Ивановича атакует дама из Литературного института:
— Приезжайте к нам, выступите, расскажете студентам что-нибудь интересное, почитаете…
— Что же?
— Ну, например, неопубликованного Блока.
— Зачем же я буду читать им неопубликованного Блока, когда они опубликованного не читали?
Одно из самых ненавистных для него слов — скука. Маршак хорошо сказал: «Скука — зевок небытия». Чуковский как никто умел быть, радоваться бытию, смеяться над тем, что не есть, а только симулирует собственное существование. «Живой как жизнь» — книга названа очень по-чуковски.
Язык зачиновленный, со словами, похожими на «входящие» и «исходящие», с пирамидой родительных падежей («выяснение перераспределения народонаселения»), с непроходимыми зарослями придаточных предложений — все это вызывало у него насмешки. Придуманное им слово «канцелярит» напоминает наименование тяжелой болезни, вроде какого-нибудь полиартрита или аппендицита.
Корней Иванович готовится к выступлению на Втором съезде писателей в 1954 году. Просит дать ему новые примеры канцелярского языка. В то время как раз вышла книжка о русской литературе прошлого века, написанная на редкость скучным, неживым, бутафорским языком. Каждая фраза изрекалась сама по себе, безо всякой связи с предыдущей. Я прилежно выписал словесные перлы, которые не перещеголяет никакая пародия, и послал Чуковскому. Спустя несколько дней после его выступления, полного какого-то триумфального остроумия, он рассказывает:
— Спасибо за чудные цитаты. Они мне пригодились. Знаете, когда я выступил и сошел с трибуны, первым ко мне кинулся тот самый автор, которого я чуть не десять раз процитировал. Ну, думаю, сейчас он мне задаст! А он подбежал, крепко пожал мне руку и взволнованно воскликнул: «А здорово вы их!» Понимаете? «Их»! Нет, сатира никого не поражает — никто не хочет расписываться в получении.
Читать дальше