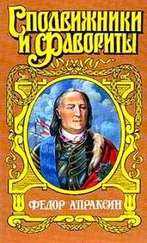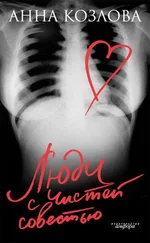— Можно у товарища командира попросить газету?
Манера, с которой он приподнял брыль, ясно говорила, что передо мной не простой ровенский крестьянин.
Высокий с зализами лоб, на миг мелькнувший из–под брыля, усилил впечатление интеллигентности лица. Кивнув головой, я разрешил взять газету и отошел в сторону. Ничем не выдавая своего внимания, стал наблюдать.
— Определенно — интеллигент! — подтвердил мои наблюдения и начштаба Вася.
Об этом же говорила манера, с которой тот уселся на пень и ловко, профессионально, просматривал газету. Взгляд его бегал по шапкам, заголовкам, презрительная улыбка по случаю «исторического» извещения о том, что «немцы заняли Рим», мелькнула и скрылась в усах.
Затем, перекинув ногу на ногу и приблизив к газете близорукие глаза, он долго и внимательно читал.
Если бы не шелест ветра да шорох начавшей опадать листвы, можно бы подумать — сидит в глубоком кресле человек, вся жизнь которого прошла среди книг, журналов, карточек.
Но кто же он? Агроном, учитель, врач?
Почему, обращаясь ко мне с галицийски построенной фразой, он в то же время не называет меня паном–начальником?
Когда он сложил газету и с вежливым поклоном, в котором чувствовалось достоинство и не было ни тени холуйской лести, столь распространенной среди «европейски образованных» людей, отошел обратно к часовому, я подошел к нему. Разговор зашел о событиях дня, о которых мы прочитали во «Львовских вiстях».
Комментировал он их бегло, изредка сбиваясь в ответах, видимо желая быть понятным «восточному» украинцу. Я намеренно построил несколько фраз с нажимом на местный выговор.
Он впервые взглянул на меня исподлобья и настороженно. И сразу скрыл свою заинтересованность в густых бровях.
— А пан… выбачайте… товарищ командир, не из нашей стороны?
— Нет… почему же? Просто, кохаюсь в литературе… Изучал Франка, Кобылянскую, Стефаника…
— Ага… Цикаво, цикаво… — протянул он, разглаживая усы, и стал задавать мне вопросы по… западно–украинской литературе.
Отвечая ему, насколько мог точно и почти не слушая его поправок, я вскоре угадал профессию собеседника. Передо мной был преподаватель литературы.
— Гимназиальный профессор! — подтвердил он мою догадку. — Выкладаю также мовы: латыну, нимецку, польску и штуку, исторични заклады…
Когда же я спросил, почему мы встретились с ним здесь, вдали от города, он объяснил:
— Я живу здесь, на хуторе.
— Учите?
— Нет. Работаю лесником… За клапоть земли.
— Но вы же могли быть в фаворе, знаете немецкий язык…
— Я знаю мову Гейне, Лессинга, Фихте, Канта, Гете, но не знаю мовы Геббельса.
«Интересно! Говорит правду? Похоже… А если обманывает с таким честным взглядом… тогда это враг опасный. Такие, вероятно, и те… изощренные в обмане, натасканные на шпионаже, предательстве, отточившие националистическую фразеологию…»
— Товарищ командир замыслился?.. — говорит он ровным баритоном опытного педагога. — Я знаю о чем. Пан думает о том, что вот поймали мы петлюровца, або ж националиста?.. Пришел к нам в разведку. Пусти его — он сразу немца приведет… — и он печально махнул рукой. — Правда?
Я не выдержал и засмеялся.
Он тоже улыбнулся просто и невесело.
— Угадал?
— Угадали. Не совсем, но почти угадали… Как же это вы так?
— Я внимательно приглядываюсь к людям, которые мне нравятся, — с грустью начал он свой рассказ. — Я не могу сказать, что я — коммунист. Нет. Все–таки воспитание наше псевдодемократическое…
— Или социал–демократическое? — поправил я его полушутя–полусерьезно.
— Ну, пусть так, — не спорю. Но если бы вы сумели понять, как мне дороги ваши высокие идеалы. Они волнуют меня, и я не только умом — умом и подавно, — а сердцем чувствую: правда на стороне ваших идей. Это самые прекрасные идеи человечества. Но…
— И все же нельзя без «но»?.. — сказал я с вежливой улыбкой, стараясь вызвать его на откровенный разговор.
— Не смейтесь. Я думаю, вам должно быть интересно, что думает о вас хотя бы вот такой эрзац–европеец, как я.
— Конечно. Извините. Вы сказали — но…
— Да, я сказал — но… Продолжаю… Но чистые идеи надо проводить и честными людьми. Когда ваши войска пришли и освободили нас, — здесь было ликование, — и он широким жестом обвел степь вокруг, над которой мерно журчала немецкая «стрекоза» — разведчик, — всеобщее ликование. Каждый радовался по–своему. Но радовались все…
— Почти все, — поправил я его.
Читать дальше